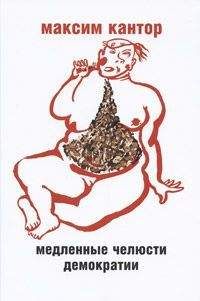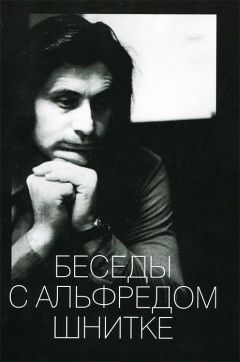И.В. – Г.: Николай Иванович, художник, эмигрируя, обычно сразу порывает с Россией?
Н.Х.: Кого вы имеете в виду?
И.В. – Г.: Архипенко, Сутина, Габо, Певзнера.
Н.Х.: Архипенко не эмигрировал, он уехал в 1908 году во Францию и там натурализовался. И вообще, скульптор, кубист международный, какие у него могут быть национальные признаки? До отъезда из России он был в дружеских отношениях с Малевичем. Они сдружились в Киеве, Архипенко ведь был украинцем. Сохранилась открытка Архипенки, присланная им Малевичу из-за границы, с изображением его ранней скульптуры – Адам и Ева, стоящие у дерева. Я думаю, потом переписка прекратилась, но эта открытка – очень дружеская, даже с обращением на ты, а ведь Архипенко был моложе Малевича – была послана по следам свежей дружбы. Потом эта переписка прекратилась, но, когда он уехал, он сразу написал Малевичу.
Сутин уехал отсюда совсем молодым, он там стал художником, и это большой живописец.
Габо – полная бездарность, нуль, а Певзнер талантливый живописец и конструктор. Недаром он натурализовался во Франции, а Габо – он для америкашек. Они уехали в начале революции. Габо был деляга, художник-дилетант, все его конструкции похожи на математические машины в политехническом музее – это не искусство. Он в подметки брату не годится, а сам обвинял Певзнера в плагиате. Живопись Певзнера, его полые, вогнутые, ребристые формы тогда уже были сделаны, кроме того, был уже Архипенко, и кубизм был.
И.В. – Г.: Но это русское искусство?
Н.Х.: Нет, это не русское искусство. В Певзнере еще что-то было, кое-где мелькал ранний Врубель. У них был брат Алексей, который теперь умер. Он был со мной в хороших отношениях.
Алексей Борисович, странный человек, которого Габо заставил написать книгу о себе и о Певзнере, и там он обвиняет Певзнера в плагиате. Я говорю ему: «Алексей Борисович, как вы можете обвинять одного вашего брата в плагиате у другого, как вам не стыдно? Я противник Габо, для меня художник только Певзнер». Он немножко сгладил, но все-таки оставил пакость! Он забрал из России за границу все оставшиеся здесь работы Певзнера.
Здесь всех ждала веревка, но, как сказала Ахматова, настоящему поэту нужен воздух бедствий.
И.В. – Г.: А вы встречались с Ларионовым?
Н.Х.: Нет, я с ним не виделся, они уехали отсюда в 1915 году и никогда после сюда не приезжали. Но он узнал о моем существовании еще в 1957 году, прочел какую-то мою работу, включил мою статью в свой каталог. Он прислал мне с Лилей Брик свои каталоги с милыми надписями, на одном даже собачку нарисовал. И еще они передали мне каталоги Натальи Сергеевны, она тогда еще была жива.
Лиля ему сказала, что я считаю его самым великим художником в мире. Я устроил выставку через год после его смерти, немножко не дотянул.
И.В. – Г.: Вы дружили с Лилей Брик?
Н.Х.: Да, до тех пор, пока Катанян нас не поссорил. Он меня возненавидел, грубо говоря, может, чему-то завидовал глупо невероятно и пошло. Вообще он был альфонс, дрянь абсолютная. Он нас поссорил с Лилей. Я считаю, она сделала ошибку: жена цезаря не должна выходить замуж за его дворника.
И.В. – Г.: Николай Иванович, выставки, которые вы организовали в музее Маяковского, явились одним из самых важных факторов новой культуры 60-х годов. Два главных фактора, повлиявших на развитие нового русского искусства, – это фестиваль, когда привезли новое западное искусство, и эти ваши выставки.
Н.Х.: Они были заблаговременные и провидческие. Тогда это искусство было под запретом, и это был риск. Последнюю выставку (Шагал, Розанова, Якулов, Татлин, Родченко – музей меня заставил включить его в выставку из-за Маяковского) запретили. Выставка уже была повешена, и ее не разрешили открыть. Пришла комиссия из МК, меня чуть не арестовали. Это была провокация директорши, она устроила выставку наверху и сказала, что провалится пол, поставила милиционера и никого не пускала.
И.В. – Г.: Но все-таки она была единственной, которая согласилась делать эти выставки?
Н.Х.: Потом уже только делала вид. Когда была выставка Ларионова, она была в отпуску, и выставка продолжалась целых семь дней.
Эти выставки были открытием всей этой культуры. Была выставка Матюшина с Филоновым, Татлин с Малевичем, Гуро с Эндером, Ларионов, две выставки Чекрыгина.
И.В. – Г.: Как вам это удалось?
Н.Х.: Силой убежденности. Нашаманил. Из Третьяковки я попросил восемнадцать вещей Ларионова, две самых левых, их не дали. В Третьяковке меня ненавидели, они же своим сотрудникам этих вещей не показывали, это же все из фондов. Они дали мне 16 вещей, я хотел было позвонить в Министерство культуры, а потом решил – черт с ним, они могут вообще все отменить. На эти выставки из других городов приезжали. У меня же сохранилась книга отзывов. После закрытия выставки Ларионова мне звонят из «Правды»: «Мы получили массу писем из провинции от людей, которые хотят видеть эту выставку. Может, вы ее продлите?» Я сказал: «Я ее продлю на три дня, и вы еще получите письма». – «Так что же делать?» – «А введите работы Ларионова в экспозицию Третьяковской галереи».
У меня уже выработалось шестое чувство. На выставке Ларионова я пришел в музей в восемь часов утра, снял все работы, всю выставку повалил на пол. Проходит час, и является комиссия из МК. Я говорю: «Выставка уже снята, ничего особенного не было». Показываю несколько работ, они стоят с кислыми лицами – все-таки опоздали, не увидели выставку на стенах.
И.В. – Г.: А как вам удалось получить работы Ларионова из запасников Третьяковки?
Н.Х.: Тогда приехала вдова Ларионова. Министерство культуры обещало ей устроить выставку Ларионова. Она пришла ко мне и сказала, что то, что я собираюсь устроить маленькую выставку Ларионова, может помешать устройству ее выставки. Я ей сказал, что моя камерная выставка не может никому помешать, и она успокоилась. А выставку ей не устроили. Она собиралась подарить работы Гончаровой, которую страшно ненавидела. После отказа делать выставку она была страшно разъярена и решила ничего не дарить. Тогда я позвонил в Министерство культуры и сказал, что если они мне дадут работы из фонда и я устрою выставку, то вдова Ларионова подарит им работы. Фурцевой тогда не было, был какой-то то ли Попов, то ли Петров, и он дал разрешение. Когда я пришел отбирать из фондов работы, у них глаза вылезли, они их своим сотрудникам не показывают. Ругали меня не только в спину, но и в лицо даже. А я взял и показал шестнадцать прекрасных холстов Ларионова. А вдова подарила Третьяковке «Четырех святителей» Гончаровой, натюрморт и еще что-то. Они на мне хорошо заработали. А потом она подарила кучу пастелей Гончаровой музею Пушкина, и они даже устроили выставку – это были ее ранние реалистические пастели, хорошие, но ничего левого там не было.
О всех этих выставках писали за границей. Были изданы пригласительные билеты, каталогов тогда издать было невозможно. Во всех библиографиях Ларионова указывается выставка в музее Маяковского и отмечено – без каталога. На выставке Филонова был посол Израиля Харэль, был посол Канады, вообще приходили послы и дипломаты. Нина Кандинская приехала в Москву и позвонила мне. Я очень растерялся, и она сказала, что я, наверно, думаю, что меня разыгрывают, и пригласила меня в гостиницу, пить кофе. Я сказал, что не могу, демонтирую выставку, и она приехала на выставку Филонова, и ей очень понравилось.
И.В. – Г.: Не было художника в Москве, который не видел бы эту выставку. Все было, кроме каталога.
Н.Х.: Ну, каталогов тогда делать не разрешали, но были напечатаны приглашения
И.В. – Г.: Николай Иванович, что для вас сейчас самое главное в искусстве XX века?
Н.Х.: Величайший Хлебников – это такое уникальное явление, равного которому нет в литературе ни одного народа, такие поэты рождаются раз в тысячу лет. В искусстве одного назвать невозможно, как живописца я больше всего люблю Ларионова. Малевич, конечно, цветописец. Татлин все-таки вышел из искусства, в живописи он не может состязаться с Ларионовым, все-таки не дотягивал. У него одна вещь висела в квартире – «Яблоневый сад» Ларионова. Он мне говорил: «Видишь?» – «Вижу». Ну, конечно, Ларионов, Татлин, Малевич – главная тройка русская.
И.В. – Г.: Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?
Н.Х.: Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажен в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано. Вышел сейчас толстый том – это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлек в эту историю все-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это все спекуляция.