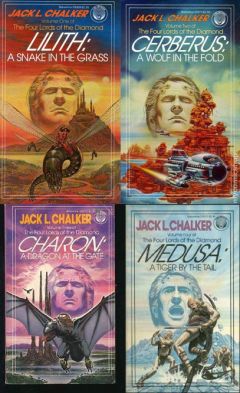Итак, еще в первые постреволюционные годы и десятилетия все базовые объяснения революции были сформулированы. Дальше началась их научная интерпретация и концептуализация. Причем шла она, в основном, на Западе, тогда как в СССР до конца 1980-х годов довольствовались смягченной марксистско-ленинской интерпретацией.
На Западе в советское время доминировали концепции, близкие к нашим левым и либеральным, а потому зарубежная литература о революции – как марксистская, так и немарксистская – выстроена, во многом, в пессимистическом ключе. Поначалу довольствовались газетными стереотипами, согласно которым «заговорщиками», свергнувшими царизм, объявлялись императрица, Распутин и бездарные министры, управлявшие нежизнеспособной страной при безвольном правителе. Но были и исключения. Одну из первых оценок революции в противоположном ключе дал Уинстон Черчилль: «Поверхностная мода нашего времени – описывать царский режим как слепую, прогнившую, ни к чему не способную тиранию. Но изучение тридцати месяцев войны с Германией и Австрией изменит это легковесное представление… Мы можем измерить прочность Российской империи теми ударами, которые она выдержала, теми неисчерпаемыми силами, которые она проявила». И, далее, об императоре: «Несмотря на ошибки большие и страшные – тот строй, который в нем воплощался, к этому моменту выиграл войну для России… Его действия теперь осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите: а кто другой оказался пригоднее?»[42]
Широкое научной изучение нашей революции на Западе началось уже в годы «холодной войны» и во многом в целях ее ведения. С тех пор сменились три поколения историков[43]. В чем-то они совпадали с упоминавшимися поколениями широких теоретиков революции, а чем-то и нет.
Поколение «отцов» было представлено почти исключительно либералами, которые настаивали на том, что в феврале 1917 года осуществлялся прорыв к свободе, направленный против несостоятельного и прогнившего царского режима. С этой точки зрения, они были «пессимистами». С другой стороны, отвергая марксистские трактовки, «отцы» подчеркивали роль субъективного фактора и тем самым нередко выступали в роли «оптимистов». Героями революции были политики, ориентированные на западный путь развития, в основном кадеты и умеренные социалисты; антигероями – представители власти, консерваторы, а также большевики, все испортившие. В эпических, хорошо документированных полотнах революции, выходивших из-под пера таких проверенных бойцов «холодной войны», как Ричард Пайпс, Джордж Кеннан, Збигнев Бжезинский, Адам Улам, Леонард Шапиро, Мартин Малиа, представало зеркальное отражение официальной советской историографии – с изменением оценок на прямо противоположные. «Отцы» уделяли первоочередное внимание настроениям и политическим действиям элит. Так, Пайпс полагал, что в начале ХХ столетия в России не было предпосылок, неумолимо толкавших ее в революцию, кроме общей бедности большой части населения и наличия необычайно активной и оппозиционно настроенной интеллигенции, поставлявшей в большом количестве кадры фанатичных профессиональных революционеров. Вина на такой настрой интеллигенции возлагалась на царскую власть, которая не допускала ее к участию в политической жизни и тем самым заставляла объединяться в касту, исповедующую идеологию крайнего толка[44]. Весьма популярны были и идеи о саморазложении режима. Улам уверял, что «сначала самодержавие, а затем демократия капитулировали перед анархией». Это была «патриотическая революция, направленная на свержение правительства и режима, неспособного довести войну до победного конца». После Февраля «Россия могла с полным основанием занять место среди народов, борющихся за свободу»[45].
В 1970-е годы политическая историография либерального толка подверглась атаке со стороны поколения «детей» – молодых тогда «ревизионистов», поднявших флаг социальной истории, или «истории снизу», и вернувших в круг исследования рабочих, солдат и крестьянство. Находясь под немалым влиянием марксизма, они исходили из точки зрения о «развращенных высших классах и их добродетельных жертвах – низших классах», сочувствовали «тяжелому положению и требованиям угнетенных масс». Но, при этом, социальные историки исповедовали довольно широкую палитру взглядов: «республиканские, демократические, народнические, либеральные и даже леворадикальные»[46]. В классической для ревизионизма работе Леопольда Хеймсона доказывалось, что социальная поляризация и волнения среди рабочих еще до войны поставили Россию на грань революции, которая была неизбежна при любом сценарии последующих событий[47]. Социальные историки чаще были «пессимистами»: царизм находился в состоянии назревающего кризиса, режим и общество разделяла пропасть, власть не пользовалась никакой поддержкой, растущие города становились застрельщиками всеобщего натиска на самодержавие. Вопрос стоял не о том, будет ли революция, а какого типа революция сметет Николая II: «дворцовый переворот, оппозиция в парламенте или социалистическая революция на улице»[48].
Распад Советского Союза, окончание «холодной войны» и «архивная революция» с 1990-х годов выдвинули на передний план поколение «внуков» – представителей «новой культурной истории» и постмодернистов. Они отличаются междисциплинарностью, первостепенным вниманием к человеку и его культуре, первоочередным интересом к анализу интеллекта, менталитета, дискурсов, семантики. Место эпических полотен заняли очень конкретные исследования достаточно узких проблем, позволяющие воссоздать ранее совсем не замеченные штрихи российской жизни. При этом следует подчеркнуть, что в историографии «внуков» обращено немалое внимание на «разобщение внутри правящих элит и противоречия между потенциальными элитами» как решающие для объяснения событий на только революции 1917 года, но также Смуты начала XVII века и распада Советского Союза[49]. Отказавшись и от марксистского нарратива о классовой борьбе, и от либеральных концепций «трагедии порабощенного народа» и «моральных преступлений большевизма», новые историки не проявили интереса к какой-то одной исследовательской парадигме. Западные историки перестают проклинать или славить русскую революцию 1917 года, они начали ее изучать, как это произошло намного раньше с английской и французской революциями. Что еще не всегда можно сказать о российских исследователях.
В современной России события Февраля и Октября 1917 года все еще, во многом, остаются предметом политики и идеологической борьбы. При этом любопытно, что используются и живут новой жизнью все существовавшие прежде отечественные концепции, многие из которых смешались с упоминавшимися западными идеями последних десятилетий.
Во главе пессимистов по-прежнему сторонники марксистско-ленинской интерпретации революции, которую в полной мере разделяет и нынешнее руководство Коммунистической партии Российской Федерации, считающей себя прямыми наследниками Великой Октябрьской Социалистической революции. При этом в ней наметился очевидный национал-патриотический пласт, никак не характерный для самого Ленина.
В рамках пессимистической трактовки пустило корни на нашей почве мальтузианство, объяснявшее причину общественных катаклизмов нерегулируемой высокой рождаемостью при падающей производительности земли. Эта концепция – структурно-демографическая – применительно к русской революции разрабатывается, например, Сергеем Нефедовым из Уральского отделения РАН, который видит ее причины в абсолютном обнищании трудящихся. Недостаточные наделы, сохранившееся помещичье землевладение, вывоз зерна за границу, эксплуатация крестьянства были причинами массового вымирания быстро росшего в количественном измерении населения – от голодовок и болезней. Россия оказалась – главным образом, из-за «голодного экспорта» – в классической мальтузианской ловушке[50].
Весьма созвучными взглядам современных российских либералов оказались теории модернизации, столь популярные на Западе в 1960– 70-е годы. Императорская Россия рухнула потому, что ее власть оказалась неспособной вписать страну в рамки модерна, под которыми понимаются индустриальное производство, правовое государство, гражданское общество и рациональный автономный индивид. Страна не смогла осуществить политическую модернизацию: перейти от абсолютизма к конституционной государственности, а также передать власть от традиционной элиты модернистской.
Ахиезер, Клямкин и Яковенко доказывают, что, хотя модернизация конца XIX – начала ХХ века не относилась к разряду репрессивно-принудительных, она была экстенсивной, осуществлялась благодаря многократно увеличившемуся вывозу зерна и широкому привлечению иностранного капитала, то есть за счет большинства населения, которое модернизацией оставалось незатронутым. Незапланированным результатом модернизации явился конфликт интересов, наложившийся на культурно-ценностный раскол страны и открывший путь для смуты. Либерально-демократические реформы Николая II, сочетавшиеся с предельно жесткими военно-полицейскими мерами, смогли, как выяснилось, лишь на время приостановить ее. «Форсированная индустриализация, бывшая ответом на внешние вызовы и осуществлявшаяся правительством в соответствии с принципом “недоедим, но вывезем”, явилась одновременно мощнейшим стимулятором внутренней напряженности и, как следствие, новой русской смуты»[51].