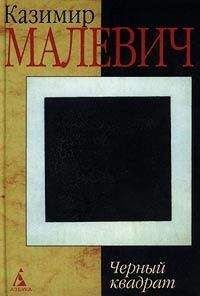А самого поэта нет, есть мастер дел «обувных», и только. Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэта, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм.
Может быть, в трамвае, улице, площади, на реке, горе — с ним будет пляска его Бога, его самого. Где нет ни чернил, ни бумаги, и запомнить не сможет, ибо ни разума, ни памяти в данный момент не будет у него.
В нем начнется великая литургия. Тоже дух, дух религиозный (мне кажется, что дух не один, а несколько, или, может, один, но, попадая в индивидуальные особенности — по-иному говорит).
Дух церковный, ритм и темп — есть его реальные выявители. В чем выражается религиозность духа, в движении, в звуках и знаках чистых без всяких объяснений — действо и только, жест, очерчивание собой форм, в действе служения мы видим движение знаков, но не замечаем рисунка, которого рисуют собою знаки. Высокое движение знака идет по рисунку, и если бы опытный фотограф сумел снять рисунок пути знака, то мы получили бы графику духовного состояния.
Церковный, религиозный дух находится в таком же владении буфетчика, так же обвешан значениями знаков, каждый знак превращен в символ чего-то, стал недвижим, неуклюж, как носильщик. Носильщиком в данный момент и есть служитель, но в большинстве случаев служители церковные религиозного духа — есть носильщики, которые из нош сделали себе кусок хлеба.
Такие носильщики живут, как клопы в щелях, они не сбегут. Но есть служители, которые хотят служить по требованиям голоса религиозного духа и вошедшие в дом, облеченный в багаж утвари церковной, — бросают <его> и бегут.
Люди, в которых религиозный дух силен, господствует, должны исполнить волю его, волю свою и служить, как он укажет телу, делать те жесты и говорить то, что он хочет, они должны победить разум и на каждый раз, в каждое служение строить новую церковь жестов и движения особого.
Такой служитель является Богом, таким же таинственным и непонятным — становится природной частицей творческого Бога. И может быть постигаем разумом, как и все.
Тайна — творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигаются таинства нового.
Своим действом будит присущий ему дух в других и в этом пробуждении он преемственен и преемственность таинственна и непостижима, но реальна.
Подобный служитель действующий образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни бегут еще дальше в глушь сутолоки.
И через пустыню он по-настоящему выйдет в народ, и народ в него, и если народ почувствует родственность в себе его, воскликнет с ним каждый по-иному — но едино.
И будут едины, пока не сгорит служитель. Тот, на которого возложится служение религиозного духа — являет собою церковь, образ которой меняется ежесекундно. Она пройдет перед ним движущаяся и разнообразная.
Церковь — движение. Ритм и темп — его основы.
Новая церковь, живая, бегущая, сменит настоящую, но превратившуюся в багажный, железнодорожный пакгауз.
Время бежит, и скоро должны быть настоящие.
* * *
В поэзии уже промчались бегом первые лучи нового поэта, свободного от искусства мастерства, легкого и свободного. Гортань его зеркально чиста, и говор его чист и плавен. Нет в нем вещей неуклюжих — ведь ужасен современный и прошедший поэт.
Черна гортань его, выползают слова-вещи: табурет, розы пахучие, женщины, гробы и тучи — это какой-то ящер, изрыгающий вещи.
Лучи нового поэта осветили буквы, но их назвали набором слов. Что можно без труда набрать сколько хочешь. Такие отзывы были среди мудрейших старейшин.
Пушкин мастер, может быть, и кроме него много мастеров других, но ему почет, как старейшей фирме. Есть много мастеров других профессий и много старейших фирм — везде искусство, везде мастерство, везде художество, везде форма.
Само искусство — мастерство есть тяжелое, неуклюжее и по неповоротливости мешает чему-то внутреннему, тому, что часто говорят мастера художественного «достигнуть трудно и нельзя», нельзя передать натуры и нельзя высказать себя.
Все искусство, мастерство и художество как нечто красивое — праздность, обывательщина.
Самое высшее считаю моменты служения духа и поэта говор без слов, когда через рот бегут безумные слова, безумные ни умом, ни разумом не постигаемы.
Говор поэта, ритм и темп делят промежутки, делят массу звуковую и в ясность исчерпывающие приводят жесты самого тела.
Когда загорается пламя поэта, он становится, поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью. Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо будет тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.
УЛЭ ЕЛЭ ДЕЛ ЛИ OHE КОН СИ АН
ОНОН КОРИ РИ КОАСАМБИ МОЕНА ЛЕЖ
САБНО ОРАТР ТУЛОЖ КОАЛИБИ БЛЕСТОРЕ
ТИРО ОРЕНЕ АЛИЖ
Вот в чем исчерпал свою молитву, свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать, и никто не сможет подражать ему[81].
Письма К.С. Малевича разным адресатам
<Июнь> 1916.
Дорогой Михаил Васильевич.
Получил Вашу открытку. Очень меня она огорчила. Печально, что культурный уголок Петрограда стал хворать, совсем не кстати. Жаль Закржевского[82].
* * *
Меня бог не оставил своей заботой. На целое лето приехала сестра Соф<ьи> Мих<айловны>[83] с детьми. Отчаянные пистолеты — одному 7 л<ет>, 6 л<ет> и трет<ьему> 11 лет. Кара эта, должно быть, за Вавилонскую башню супрематизма. Описать трудно, но цифры очень ясно говорят сами.
* * *
Крученых очень часто пишет из Сарыкамыша. Все парень готовится после войны завернуть «верчу». Дай бог, я буду очень рад за него. Я тоже посылаю ему, как он называет, «ветрописи». Пишу ему новые свои задачи и мысли о слове, о композиции словесных масс (до сих пор компоновалась рифма, а не слова). Пока видны три случая в поэзии. В первом случае возникла мысль (о вещах). Поэт набирал буквы, образовывал слова, обозначающие ту или иную вещь. Поэзия описательная, и чем складнее и плавно удавалось описать поэту лунную ночь, тем больше поэзии (какая чепуха). Буквы были знаки для образования слова.
Второе — новые поэты повели борьбу с мыслью, которая порабощала свободную букву и пытались букву приблизить к идее звука (не музыки). Отсюда безумная или заумная поэзия «дыр бул.» или «вздрывул». Поэт оправдывался ссылками на хлыста Шишкова[84], на нервную систему, религиозный экстаз и этим хотел доказать правоту существования «дыр бул.». Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому, же мозгу, к той, же точке, что и раньше. Поэту не удается выяснить причины освобождения буквы. Слова как в «таковое» — это вылазка Крученого, и, пожалуй, она дает ему еще существование. Слово «как таковое» должно быть перевоплощено «во что-то», но это остается темным, и благодаря этому многие из поэтов, объявивших войну мысли, логике, принуждены были завязнуть в мясе старой поэзии (Маяковский, Бурлюк, Северянин, Каменский). Крученых пока еще ведет борьбу с этим мясом, не давая останавливаться ногам долго на одном месте, но «во что» висит над ним. Не найдя «во что», вынужден будет засосаться в то же мясо.
* * *
В поэтах прошлого и поэтах настоящего произошла большая перемена: первые смотрели на букву как на средство, знаки, которыми они выражали свои мысли (это ими было ясно осознано). Вторые смотрели скорое как <на> звук (Крученых). (Но это было им темно.) Темно потому, что они думали тогда, когда нужно было «слушать». В первом случае возникала мысль и сейчас же накоплялись слова. Во втором — длительность звука накопляла буквы, но уже не слова, и слово «как таковое» уже кажется не вполне освобожденным, потому что оно слово. Умное или заумное — это не важно. Они близки между собою, одинаково сильны — это два полюса. Но задача поэзии буквы — выйти из этих двух полюсов к самой себе.
И мне кажется, что новым поэтам нужно определенно стать на сторону звука (не музыки). Тогда можно избежать катастрофы «ввязнуть в брюзглое мясо старой поэзии».
* * *
Сначала не было букв, был только звук. По звуку определяли ту или иную вещь. После звук разъединили на отдельные звуки и эти деления изобразили знаками. После чего смогли выражать для других свои мысли и описания.
Новый поэт — как бы возврат к звуку (но не язычеству). Из звука получилось слово. Теперь из слова получился звук. Этот возврат не есть идти назад. Здесь поэт оставил все слова и их назначение. Но изъял из них звук как элемент поэзии. И буква уже не знак для выражения вещей, а звуковая нота (не музыкальная). И эта нота-буква, пожалуй, тоньше, яснее и выразительнее нот музыкальных. Переход звука из буквы в букву переходит совершеннее, нежели из ноты в ноту.