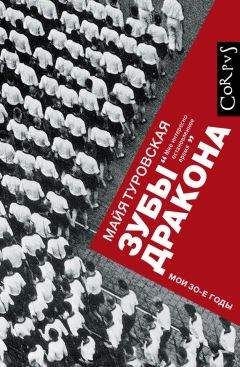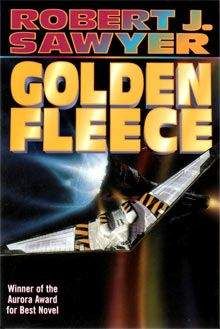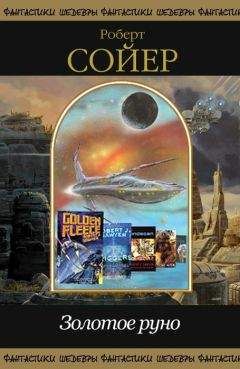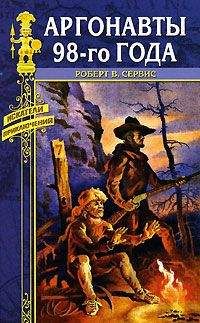Но этот сон изображен с сильной кинематографической фантазией, с кинематографическим темпераментом…
В этой фильме сцена захватывающей правды. В этой фильме – сцены смехотворной лживости. Сцены глубокого социального значения. Сцены ребячливой поверхностности. Художественные тонкости и невыносимо тяжеловесные преувеличения. В общем, скучным нельзя назвать ни один кадр. Но в целом самым интересным является то, что, несмотря на все это, фильма выдерживает единый стиль: эта вещь как бы высеченная из одного куска. Хорошее и дурное растет здесь на одной почве. Та сила, которая создает лучшее, порождает так же самое дурное. И даже на том же самом пути. Она делает только лишний шаг, и «количество переходит в качество». Хорошее не развивается дальше, а становится дурным. А как часто Пырьев делает шагов двадцать лишних…
Так лучшие качества Пырьева сбивают его на путь величайших ошибок. Это его необыкновенная кинематографическая фантазия, его горячий кинематографический ритм, варварский талант[197].
Я позволила себе столь развернутую цитату, потому что, на мой взгляд, она могла бы служить вступлением и эпиграфом к пырьевскому комедийному кинематографу как кинематографу жанровому, кинематографу, не стесняющемуся «низких жанров» и берущему свои истоки столь же в фольклорных мотивах, сколько в ежедневной газете, а заодно в тех традициях народных увеселений – ярмарки, балагана, лубка, – которые для Пырьева не были предметом интеллектуального увлечения, а были живыми, подлинными впечатлениями его детства, знакомой действительностью, давшей впоследствии благодарную пищу его фантазии, его горячему ритму, его поистине варварскому таланту.
Не буду здесь останавливаться на некрасивой истории несостоявшейся постановки «Мертвых душ». В своих воспоминаниях Пырьев сказал об этом кратко, но с достаточной откровенностью, чтобы не сказать цинизмом:
Для экранизации поэмы студия привлекла по моей просьбе Булгакова… Начался подготовительный период. Я договорился с Н. П. Акимовым о художественном оформлении будущего фильма. Д. Д. Шостакович согласился писать музыку, а В. Э. Мейерхольд – играть роль Плюшкина. На роль Ноздрева был намечен Н. Н. Охлопков, на роль Манилова – Ю. М. Завадский, а К. А. Зубов должен был играть Чичикова…
Уже начали готовиться к пробам, шить костюмы, делать парики, заготовлять реквизит, как вдруг в «Правде» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки»…
На меня эта статья произвела большое впечатление, я понял ее, быть может, даже шире ее действительного значения. Она для меня прозвучала как призыв отдать свои силы правдивому художественному отражению нашей современности.
Мне шел тогда тридцать третий год. В этом возрасте, если человек не обременен семьей, решения принимаются быстро. И я отказался от постановки «Мертвых душ»[198].
Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая творческая судьба Пырьева, если бы «Мертвые души» в том уникальном составе группы, которую он называет, были осуществлены. Мы были свидетелями того, как уже в 60-е годы на «Мосфильме» он пытался вернуться к этому замыслу и к сценарию Булгакова. Но в одну реку нельзя войти дважды. Тогда же он, как до него и другие режиссеры[199], предпочел прекрасной булгаковской экранизации и блестящей творческой группе эскиз сценария, набросанный Виноградской для Ромма, на актуальную тему бдительности, который вместе со сценаристкой подверг коренной переработке.
«Партийный билет» – пожалуй, единственная попытка Пырьева влиться в русло современного социального фильма, которая много может рассказать и о времени, и об отношениях человека со временем.
После двухмесячных мытарств с картиной, стяжав в конце концов успех, он тем не менее покинул «Мосфильм» и уехал на Киевскую студию, где присмотрел для себя сценарий начинающего Е. Помещикова, по которому поставил первую из своих деревенских комедий – «Богатую невесту». Но «мы истории не пишем». Обозначу лишь год выхода «Богатой невесты» – 1938-й. И сделаю правдоподобное допущение, что разительная бесконфликтность «Богатой невесты», ее беспечность на фоне отнюдь не бесконфликтной и не беспечной действительности была запрограммирована не только произнесенными уже сакраментальными словами «Жить стало лучше, жить стало веселей», но и душевным опытом Пырьева, его нежеланием в дальнейшем попадать в какие-либо передряги[200].
Но, странным образом, осознанная необходимость неожиданно претворилась для Пырьева в его художественную свободу. После долгих поисков он нашел в «Богатой невесте» свой собственный сокровенный жанр, и если вычесть тот контекст, в который эпоха ставила его непритязательные фильмы (впрочем, контекст, скорее всего, и отвечал за их популярность), то речь может идти о создании жанра подлинно массового зрелища, каким в знаменательное десятилетие 1938–1949 годов стали музыкальные картины Пырьева: «Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Сказание о земле Сибирской» (1947), «Кубанские казаки» (1949). О них и пойдет в дальнейшем речь.
Название это заимствовано мной из известной работы Владимира Проппа «Морфология сказки». Забегая вперед, скажу, что и методология анализа также восходит к работам Проппа, главным образом – «Морфология сказки» (Л., Academia, 1928), статьям, вошедшим в сборник «Фольклор и действительность» (М., Наука, 1976), «Исторические корни волшебной сказки» (Л., изд-во Ленинградского ун-та, 1986)[201]. Несмотря на различие материала, многие выводы исследователя приложимы к кино.
Если отвлечься от исторического фона каждого в отдельности музыкального фильма Пырьева, то «морфология» их окажется на редкость обозрима, единообразна, устойчива. Нетрудно выделить их основные, функциональные элементы.
Их смело можно назвать «пырьевскими», несмотря на то что он работал с разными драматургами, композиторами, операторами – как оттого, что замысел по большей части принадлежал Пырьеву, так и оттого, что он соответственно его разрабатывал. Это нетрудно проиллюстрировать на музыкальном строе – музыка Дунаевского к фильмам Пырьева и Александрова, оставаясь музыкой Дунаевского, совершенно различна.
Все рассказанные в этих фильмах истории есть на самом деле предыстории свадьбы. Не истории любви (lovestory), которой в пырьевских картинах в действительности никогда нет, а именно недоразумения и проволочки перед неминуемой с самого начала свадьбой (если даже дело идет не о неделях и днях, а о годах). Все они имеют в своей основе традиционный прием ретардации, то есть задержки действия. Вне зависимости от того, будет ли эта задержка носить характер комедийный или драматический (а в иных фильмах комедийный и драматический по очереди), она всегда внешняя и принадлежит не сфере психологии, неповторимой личной судьбы, а сфере условности, сфере жанра. Те или иные функциональные элементы фабулы – первое знакомство или сама церемония свадьбы – могут на экране отсутствовать (минус-прием); но структурно они все равно обозначены. По существу, все шесть картин представляют собой усложняющиеся по количеству и разнообразности «ходов» (тоже термин Проппа) вариации одной и той же фабульной схемы, счастливо найденной в «Богатой невесте». Сам того не ведая, Пырьев строго следовал открытому исследователем сказки «закону сохранения композиции»[202].
Чтобы не быть голословной, отмечу, как варьируется эта основная фабульная молекула от картины к картине.
«Богатая невеста» представляет собой самый простой, элементарный вариант. В основе ее фабулы простейший треугольник: тракторист Згара любит колхозницу Маринку Лукаш и хочет на ней жениться, она отвечает ему взаимностью. Но счетовод Ковынько, в свою очередь, хочет жениться на Маринке. Замечу внеличностность мотива: счетовод видит в ней ударницу. Чтобы расстроить свадьбу, он оговаривает влюбленных друг перед другом: Згаре сообщает, что Маринка отстающая, а Маринке, что Згара лентяй (это недоразумение, впрочем, тут же разъясняется) и не хочет жениться на ней, так как она недостаточно хорошо работает. Маринка оскорблена, и влюбленные становятся соперниками в труде.
Маринка жалуется бригадирше, и в фабулу включается еще одно действующее лицо – бригада. Вернее сказать, женский хор, ибо персонажи фильма, как в народных и обрядовых играх, отчетливо делятся на два полухора – мужской и женский – на фоне соперничества которых и развивается сюжет. В тот момент, когда в соревнование вмешивается стихия (гроза, которая может погубить урожай), оба полухора приходят друг другу на помощь, разрешая тем самым созданную коварным счетоводом «задержку». Он и сам берет свои слова обратно и из соперника становится участником общего торжества вручения наград, которое в этом фильме – как бы синоним свадьбы.