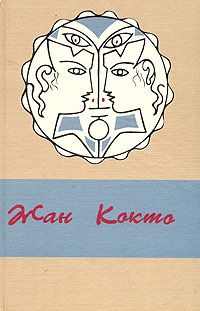С кем же мне еще беседовать? Местные отели забиты представителями новой знати, тянущей деньги из нашего кармана и копирующей роскошь, подсмотренную в фильмах и журналах.
В результате — не пойми что: они похожи на резвящихся меж столиками детей, родителям которых даже в голову не приходит, что дети могут быть воспитанными. У дверей дамы уступают нам дорогу. Угадывается привычка пропускать клиентов в маленькие дорогие магазинчики. Эти господа и дамы щеголяют в средневекового вила спортивных костюмах. Они надевают лыжи, влезают на склоны и победоносно ломают себе ноги. Я же, как могу, от всех прячусь, гуляю по снегу, запираюсь у себя в комнате и отвожу душу на листе бумаги, потому что не могу заняться единственным спортом, который меня привлекает: в 1580 году его называли собеседованием, теперь это — разговор.
Вот выглянуло солнце и наполнило красками наш прелестный мир. Издали, через окно, этот мир являет собой зрелище благородного рыцарского турнира: отряды сверкают хоругвями, копьями, гербовыми щитами, фанфарами, пестреют трибуны. На горных вершинах — пятна тени и снега, горящего ярче, чем краплак. А я, несмотря ни на что, веду беседу, потому что мне радость не в радость, если я ни с кем не могу ею поделиться. В Морцине мне делиться не с кем. Едва ли все эти люди умеют говорить. Рот им нужен только для поглощения пиши. Многие из них уезжают — их ждет торговля, приносящая солидный доход.
Я родился 5 июля 1889 года на площади Сюлли в Мезон-Лаффите (департамент Сена-и-Уаза).
Мезон-Лаффит — это своего рода спортивный парк, состоящий исключительно из вилл, садиков, липовых аллей, клумб и лужаек, площадей и фонтанчиков. Главными средствами передвижения там были скаковые лошади и велосипеды. Среди буржуазии, которую раскололо надвое дело Дрейфуса, принято было ходить друг к другу на партию в теннис. Сена, скаковая аллея, Сен-Жерменский лес, попасть в который можно было через маленькую калитку в ограде, заброшенные уголки, удобные, чтобы играть в сыщиков, лагерная стоянка, густо увитые зеленью аркады ресторанчиков, деревенская ярмарка, фейерверки и доблесть пожарных, замок Мансара с буйными сорняками и бюстами римских императоров — все это, складываясь вместе, порождало в детском мозгу иллюзию, что место, в котором ты живешь, — особенное.
Год тому назад, на свою беду, я отправился с друзьями на эту самую площадь Сюлли, сплошь заросшую бледно-зелеными, норовящими залезть вам в рукав колосками и дикими гвоздиками. Мне хотелось показать друзьям свой дом и, может быть, хотя это весьма непросто, разделить с ними грезы, рождаемые этим домом. Но первое мое ощущение было, что я потерялся в пространстве, как это бывает, когда нас с завязанными глазами ведут в одну сторону, а мы полагаем, что идем совсем в другую. Где же моя белая решетка, мой сетчатый забор, мои деревья, лужайка, мой родной дом и застекленная бильярдная зала? На месте лужайки, бассейна и клумб желтела засыпанная песком площадка. Вместо нашего дома передо мной высилась серая громада с прилепившимся к ней амбаром. За оградой сновали конюхи и подозрительно косились на нас. А я стискивал прутья перекрашенной решетки, словно запертый снаружи, и чувствовал, как мучительно щемит сердце оттого, что бесцеремонно изгнанные воспоминания не могут найти своего привычного места, своего уголка, где они, как мне казалось, спали в ожидании моего появления. Я обернулся. Может быть, по другую сторону площади я найду прибежище? Мы ходили через эту площадь по солнцепеку, направляясь в усадьбу моего дядюшки Андре. Стонала железная калитка, и справа тут же ощетинивались кущи гелиотропов. За ними открывался рай. Сад неожиданных находок. Именно там, в зарослях сирени и смородины, в сумраке сараев, ребенок пытается разгадать тайны взрослого мира.
Но меня ждал еще худший сюрприз. Участок поделили. Теперь там жались друг к другу рабочие хибары, которым, как мне показалось, не было числа. Грозди винограда в мешочках, горящие жаром персики, волосатый, лопающийся на зубах крыжовник, гераниевый дух теплиц, желобки курятника, налитые, треснувшие и сочащиеся золотом сливы «ренклод», дохлые лягушки в бассейне, замершие в театральных позах, с прижатой к сердцу лапкой, — все эти драгоценные видения прошлого в мгновение ока стали миражом, призраком убиенного, требующим отмщения.
Мы прошлись по улицам, сохранившимся лучше, чем моя площадь. Сады и дома там остались в прежнем виде, и кое-где я даже выкопал из земли «клады», зарытые мной сорок лет назад. Мы прошли вдоль стены парка, где Макс Лебоди (Сахарок) устраивал корриды и поливал свои экипажи шампанским.
Можно себе представить, до какой степени подобные зрелища бередили жестокую, алчущую приключений детскую душу. В 1904 году мы бродили вокруг этой ограды и пытались залезть на нее, встав на седло велосипеда.
Ну да ладно, хватит болтать. Сентиментальность морочит душу. Пересказывать подобные вещи все равно, что пересказывать сны. Если подумать, такие сокровища есть у каждого, и никто их другим не навязывает.
Ну вот, расхныкался, а все потому, потому, что память, не зная, куда ей деться, вынуждена была ретироваться. Но я уже прикусил язык и больше к этому не вернусь.
Я не веселый и не грустный. Но могу быть всецело одним или всецело другим, без меры. В беседе, если происходит перетекание душ, я могу иногда забыть о печали, в которой пребывал, о боли, которую испытывал, могу совсем забыть себя — настолько слова опьяняют меня и влекут за собой мысли. Так мысли приходят гораздо легче, чем в одиночестве. Случается, написать статью для меня — пытка, и тогда я ее проговариваю без усилий. Это опьянение словом предполагает, что я все же обладаю легкостью, которой у меня нет. Потому что, едва я начинаю себя контролировать, как легкость эта оборачивается каторжным трудом, который я ощущаю как крутой, нескончаемый подъем. К этому добавляется суеверный страх перед деланьем, я всегда боюсь плохо начать. Меня охватывает лень, похожая на то, что психиатры называют «страхом действия». Белый лист, чернила, перо приводят меня в ужас. Я знаю, они сговорились не давать мне писать. Если мне удается преодолеть их сопротивление, механизм разогревается, работа меня порабощает, мозг приходит в действие. Важно только, чтобы я не вмешивался в сам процесс, лучше, если я вообще буду дремать. Малейшее участие сознания — и механизм стал. А чтобы запустить его вновь, приходится ждать, пока он сам соблаговолит, и нечего даже думать подтолкнуть его какой-нибудь хитростью. Потому-то я никогда не пользуюсь столами: они сбивают меня своим приглашающим видом. Пишу я, когда придется, и на коленях. То же с рисованием. Я, конечно, могу подделать линию, но это все равно будет не она — настоящая линия выходит у меня, когда ей вздумается.
Сны обычно так нешуточно и достоверно шаржируют мои поступки, что из них можно было бы извлекать уроки. Но увы: они карикатура самого устройства моей души, что меня вконец обескураживает и совсем не помогает бороться с собой. Никто лучше меня не знает собственных слабостей, и когда мне случается читать какую-нибудь статью, направленную против моей особы, я думаю, что сам нанес бы себе удар точнее и вонзил бы клинок по самую рукоять, так что потом мне бы ничего другого не оставалось, кроме как подогнуть ноги, высунуть язык и встать на колени посреди арены.
Не следует путать интеллект, ловко вводящий своего владельца в заблуждение, и другой орган, запрятанный неизвестно где, который, хоть его и не просят, оповещает нас о наших пределах. Преодолеть их никому не дано. Усилие было бы чересчур заметно. Оно бы только подчеркнуло узость отмеренного нам пространства. Талант распознается по умению двигаться в этом пространстве. Наши достижения рождаются там же. Достижения исключительно морального порядка, потому что любое наше начинание застигает нас врасплох. Рассчитывать мы можем только на неподдельность. Малейший обман влечет за собой новый обман. Лучше уж откровенная неуклюжесть. Безликая публика ее освищет, но простит. Обман — явление замедленного действия. Публика отворачивается с помертвевшим взглядом женщины, которая любила и любить перестала.
Поэтому в школе я изо всех сил старался не тратить сил попусту. Я леплю тысячи ошибок, исправляю их как попало, ленюсь перечитать написанное и вылавливаю только суть. Если нужное сказано — остальное неважно. У меня выработался свой метод. Заключается он в следующем: быть быстрым и жестким, экономить слова, разрифмовывать прозу, долго прицеливаться, не заботясь о стиле, и непременно попадать в цель.
Перечитывая себя по прошествии времени, я краснею только за красивости. Они вредят нам, ибо отвлекают от нас. Публика их любит, дает себя ослепить и не обращает внимания на остальное. Я слышал, как Чарльз Чаплин сетовал, что не выбросил из своей «Золотой лихорадки» танец с булочками, от которого зрители приходили в неописуемый восторг. Он же видел в нем только пятно, отвлекающее внимание. Я также слышал, как он рассказывал (по поводу стилистической орнаментальности), что сняв фильм, он «трясет дерево». Оставлять надо только то, что само держится на ветках, — пояснял он.