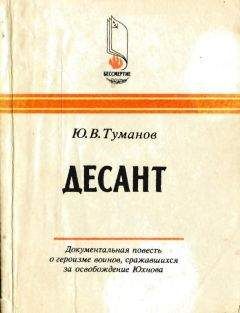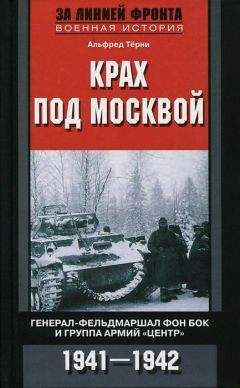— Долой все с машины! Отцепляй пушку! Ищи объезд!
— Ты, — рванулся к нему, захлебываясь от гнева, Железняков. — Ты, психопат недобитый!
Танкист покосился на белые пальцы артиллериста, царапающие темную кобуру, глянул в его худое ожесточенное лицо и, ни слова не ответив, стал медленно ввинчиваться обратно в башню.
Полчаса спустя четырнадцатый одолел крутой подъем и на самом краю деревни Проходы рухнул с бугра, подняв тучи брызг. Громадная лужа, нет, целое озеро горячей, покрытой густым паром воды оказалось над головой. Странно засверкали в морозном воздухе водяные каскады, разбрасываемые гусеницами танка. Он мчал меж пылающих домов, и десантники закрывались руками то от воды, то от пламени, полыхающего со всех сторон. Им нечем дышать: дым, огонь, тучи пара от воды, бьющей из-под танка в пожарища, вихревыми всплесками сопровождают их по всей деревенской улице. Как только держатся танкисты в раскалившемся железном ящике, как находят вслепую дорогу!
В странном сиянии радужных брызг, словно корабль на берег, выбросился наконец танк на окраину Проходов. Действительно, Проходы — чистилище, если не сам огненный ад.
Опять короткая остановка. И черный танкист вместе с Железняковым разглядывают с высоты башни поле боя. Поле как поле — снежная равнина, залитая ровным светом утреннего солнца. Но он колеблется, этот свет. Прозрачные пятнышки вперемежку с черными точками бегут по снегу, будто по всему двухверстному склону, до самой Медвенки, занятой немцами, струится редкая, тонкая кисея. Это, перекрывая солнечный свет с востока, пробиваются сквозь дым и струи раскаленного воздуха отсветы пламени горящей деревни. В них словно бы движется, меняя очертания и расплываясь, все, что от века не трогалось с места. Темные, приземистые, утонувшие в снегу избы Медвенки, удлиняясь, дрожат, как в ознобе, в них не осталось прямых линий, все извивается, гнется и светлеет. Растворяется в горячечном движении, стала прозрачной на вид, волнами пошла вся оборона врага в деревне Медвенка. Зигзагообразно струясь вверх, ввинчиваются над нею в синее небо черные голые стволы деревьев. Лавина раскаленного воздуха, пронизываемая справа лучами утреннего солнца, смерчевыми вихрями кружит над полем. И в этом сплошном мареве кажутся нереальными, нездешними, ни к кому тут на броне не относящимися грозные приметы войны на бескрайнем, сверкающем и слепящем яркою белизною поле — две глубокие темные борозды, просверленные танками в первозданном снегу.
Никто не видит солнца: всем просто не до него, не до утренней зимней красоты родной земли. Боевая машина вздрагивает от нетерпения. Но она уже не четырнадцатая. Четырнадцатой она была час назад, уходя из Красной Горки. Впереди, там, где танковые борозды проломили, перечеркнули грязные линии немецких траншей, уже далеко за ними врезаются прямо из снега в ясное небо четыре черных смоляных столба дыма — горят тридцатьчетверки. Но они горят во вражеском тылу, прорвав оборону врага, вынеся на себе десант пехоты туда, откуда смерть заносит руку над полумиллионной немецкой четвертой полевой армией. Это они, горящие возле Варшавки танки, совершили то, что до сих пор не удавалось никому. Десант уже на шоссе! На шоссе десант, что бы там ни было!
Танк выдохся. Он стоял по пояс в снегу и вздрагивал, дрожал всем корпусом, как загнанная, запаленная лошадь. Огромный неуклюжий зеленовато-черный металлический ящик с облупившейся белой краской словно кипел от бессилия и злости. Снег, ласковый пушистый снег, не выпускал его, мягко расступаясь и поддаваясь любому его движению. Оседая под бешено моловшими вхолостую гусеницами, он все глубже и глубже всасывал тяжелую броневую махину. Сначала он был ей только по пояс, потом по грудь, а вскоре только башня да фигуры десантников темнели над белой равниной.
Неуклюжий железный ящик сколько мог волок через целинный снег привязанную, к нему сзади пушку, нес на своей черной броневой спине два десятка белых кулей — десант пехоты, но теперь силы его кончились. Маленькая легкая пушечка, которую по ровной земле свободно перекатывают четыре солдата, в вязком море сугробов вдруг налилась многотонной тяжестью. Загребая щитом, как плугом, снежные горы, одолела она сотни лошадиных сил танкового дизеля, и он встал. Он еще грозил врагу, застрявший танк. Его орудийный ствол чутко разворачивался туда, откуда били немцы, и страшный черный зрачок его жерла словно принюхивался то к одной цели, то к другой, но собственная смерть уже дышала рядом. По-паучьи перебирая длинными лапами, она выскакивала то справа, то слева, вставала высокими черными столбами дыма, заглядывала сверху, сверкая разноцветными молниями трассеров над башней, высекала пулями искры из брони. Он почти ослеп, видел через триплексы и прицелы только то, что попадало впереди в узкий сектор обзора. Но то, что виделось, было страшно: впереди горели его товарищи. Густые столбы черного маслянистого дыма подымались в небо и росли все выше и выше над тусклым желтоватым пламенем, метавшимся, бившим из таких же стальных коробок, которые всего полчаса назад — яростные и живые — промчались мимо него на обгон.
Рев танкового мотора глушил все звуки. Кроме надсадного воя дизеля, десантники, жавшиеся сверху к теплой вздрагивающей броневой спине, не слышали ничего, даже разрывов тяжелых стопятидесятимиллиметровых снарядов, даже звонких ударов пуль по металлу. Беззвучная же смерть казалась совсем не опасной. Ее как-то перестали принимать в расчет. Однако танкисты и сидевший позади башни командир огневого артиллерийского взвода лейтенант Железняков хорошо понимали: еще пять, ну от силы десять минут, и немецкие батареи от пристрелки перейдут к стрельбе на поражение. Нельзя, недопустимо долго стоять на поле боя, становясь полигонной мишенью, создавая для гитлеровцев идеальные условия стрельбы.
Резко и бесшумно вскинулась круглая броневая крышка. Из ревущего, дохнувшего жаром башенного люка, как чертика на пружине, выбросило до пояса закопченного черного кожаного человека в черном ребристом шлеме. Он в яростном крике разинул рот и… никто его не услышал. Танкист, беззвучно шевеля губами, перегнулся из башни, сграбастал черной пятерней, впечатав ее в белый халат, Железнякова, рванул его к себе и, в бешеной угрозе выпучив глаза, заорал что-то прямо ему в лицо. Когда минуту спустя захлебнулись танковые моторы, вернув миру все звуки, Железнякова словно кулаком ударило в ухо:
— Обрубай! Пушку! К чертовой матери!
Ничего он не слушал, черный танкист. Никаких резонов не принимал. Махал руками, скалил яркие белые зубы и рычал:
— Обрубай! Танк не тянет!
Танкист не мог дать задний ход, не раздавив пушку. А без этого ему никак не удавалось вырвать танк из снежного плена. Он никого не хотел слушать: его броневой ящик был сейчас главным на поле боя. Главным! Остальных могло вообще не быть, и черт с ними! И чем больше сгорело его товарищей, тем важнее для боя становился он, уцелевший танк.
Но и артиллеристы знали: если они даже смогут не разрубить, развязать обледеневшие узлы, никакими силами потом не удастся заново прикрепить орудие к танку. И Железняков тоже не хотел внимать никаким доводам, хотя пехота, сидевшая на танке, явно не одобряла его и угрюмо сочувствовала танкисту. Пехота тоже догадывалась, что будет твориться здесь через десять минут. Ему же было необходимо встать с пушкой на шоссе.
Железняков вырвал из кобуры наган и, левой рукой вцепившись в отворот танкистской куртки, высоко занес правую над черным шлемом.
— Вези! Быстрее!
Танкист от неожиданности смолк и, бормотнув что-то невнятное, провалился в люк, резко рванув за собой броневую крышку. Железняков едва успел выхватить руку из-под тяжко лязгнувшей брони. Промедли — обрубило бы, как топором. Еще грознее и истошнее взревел дизель. Опять исчезли из мира сторонние звуки.
Красная, зеленая, голубая молнии сверкнули над башней. Беззвучно рухнул вниз один из десантников. Следом за ним в узкую щель между снежной стеной и готовыми все раздавить бешено крутящимися гусеницами нырнул наводчик Михалевич. Танк чуть не вмял его в снег, но Михалевич успел все же вытащить пехотинца, перевернул его, и все увидели рваные кровавые дыры в спине солдата, которому уже не нужна была никакая помощь.
Когда Михалевич, ухватившись за руки десантников, взобрался на танк, командир взвода, грозно глянув на него, толкнул наводчика к башне и сунул к носу кулак.
— Не сметь, — закричал он. — Не сметь рисковать! Ты наводчик, ты от пушки ни на шаг!
Промолов снежную трясину до твердой земли, танк все-таки вырвался из топкого плена и, переваливаясь по угорам, рванулся туда, где стояли черные дымные столбы развернувшегося боя. Ох, как засверкали над ним трассы. Слева всеми пулеметами ударила Медвенка. Справа шквальным огнем мела Алферьевская. Вся лавина раскаленного свинца неслась к нему, предназначалась ему одному, одинокому танку, медленно, очень медленно ползущему через заваленные снегом бугры и буераки.