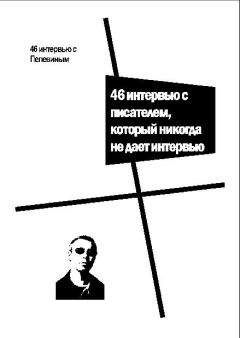CB: Вы не один раз говорили, достаточно часто говорите в этой книге — о героизме [о подвиге]. Есть цитата, по-моему, известная из русского писателя: «Благословенна страна, которой не нужны герои». И Америка, наверное, выглядела такой страной, которой не нужны герои так, как они нужны были в Советском Союзе: вот это официальное, «Герой Соц. Труда», Новый Советский Человек, Герой чего бы то ни было…
ВП: А сейчас, можно предположить, бывает Герой России, Герой Украины, Герой Казахстана…
CB: У вас в романе важную роль играет понятие «героизма», «подвига». Омон Ра отправляется, помимо всего прочего, в героическое путешествие, как он его понимает, по крайней мере, так это ему преподнесли. Это, на мой взгляд, один из самых печальных моментов, из самых волнующих — предательство подвига. Эта тема, мне кажется, проходит через все ваши произведения. Кто-то пытается совершить подвиг или оказывается близ подвига, и в конце концов бывает высмеян или уничтожен. Например, просто застрелили этого друга, молодого человека, который хотел посвятить себя космосу, быть летчиком-космонавтом. Невозможность стать героем в обществе, которое требует от каждого, чтобы он был героем — видимо, один из важнейших парадоксов в вашем творчестве. Это правда?
ВП: В России это ведь нечто обыденное. Эта учебная дисциплина — «Сильные духом», как она называется в романе, — была реальностью, все-таки. То есть, на самом деле были люди, которые приходили в школы и рассказывали детишкам о том, что они совершили в своей жизни. Советский Союз, в общем-то, был ужасной империей, которой нужны были солдаты, готовые пожертвовать жизнью… ради 10 тысяч человек, живущих на дачах вокруг Москвы. Это было очень цинично. Конечно, это было ужасно, но в то же время достаточно смешно, да?
CB: «Ха-ха». Предательство подвига… подвига, осознание того, что с тобой… осознание невозможности подвига или того, что он совершается ради 10 тысяч членов партийной номенклатуры или как бы они не назывались — привело бы, наверное на Западе (давайте поддадимся предрассудкам и предположим, что вы вообще не принадлежите к западной культуре, хотя на самом деле принадлежите), в нашей литературе это привело бы к непреодолимому желанию мести, к непреодолимому желанию разоблачать и бороться.
Какова сейчас тема вашей работы? Что вы сейчас пишете?
ВП: Вы знаете, я думаю что это плохая примета…
CB: Ах, вам нельзя говорить об этом, нельзя говорить… обсуждать это… Ох, трудно у вас брать интервью, Виктор.
ВП: Я просто пытаюсь быть честным, Кларк.
CB: Хорошо. Но уже есть книга, которая на подходе.
ВП: Да.
CB: Уже вышла на русском языке, ее уже перевели и издали в Англии, выйдет здесь уже очень скоро. Что вы можете сказать о ней?
ВП: Вот та, которая в Англии выходит, называется «Жизнь насекомых». Это роман о насекомых. Фрагмент оттуда напечатают, наверное, в журнале Grand Street, в следующем номере. Возможно, роман выпустят здесь также в форме книги. Это — книга о насекомых, Кларк.
CB: Ах, да, конечно.
ВП: Об их проблемах, противоречиях, и так далее.
CB: Как вы думаете, в книжных магазинах ее будут заносить в графу «энтомология» или «романы»?
ВП: В графу «энтомологические романы».
CB: «Энтомологический роман», ясно. Спасибо, Виктор. С вами всегда очень приятно.
ВП: Спасибо, Кларк.
CB: Нет, я пока не готов вас отпустить. О вашем опыте пребывания в городе Айова (дайте нам пару секунд)… Каково это — быть Виктором Пелевиным в Айове? Чем вы занимаетесь сейчас? Пишете без остановки? Читаете?
ВП: Лучшая часть этого опыта приходится на те моменты, когда я могу перестать быть Виктором Пелевиным.
CB: Это, значит, не такой станок, который все время работает, можно выключить станок «Виктор Пелевин».
ВП: Вы знаете, самый большой недостаток писательства в том, что если проявить неосторожность, писатель в тебе начнет жить вместо тебя. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю.
CB: Я точно знаю, о чем вы говорите.
Ну что ж, Виктор…
ВП: Я очень доволен здесь, Кларк, и много работаю сейчас.
CB: Да, вы работаете. Это огромное удовольствие — пригласить вас сюда.
Для тех, кто смотрел и думал: «А какой он человек, этот Виктор Пелевин?» — я замечу, что он не всегда такой несговорчивый в своих ответах, как это может показаться.
Огромное спасибо, что пришли, Виктор. До свидания.
Виктор Пелевин: продолжатели русской литературной традиции не представляют ничего, кроме своей изжоги
Такого не случалось уже несколько десятилетий — чтобы писатель после первой же серьезной публикации, что называется, проснулся знаменитым и потом быстро и уверенно вошел в мировую литературу.
«Что это — новый Борхес?» — вопрошал автор предисловия к первому сборнику Пелевина «Синий Фонарь».
После этого были Малый Букер, присуждаемый за лучший дебют, романы «Жизнь насекомых», «Омон Ра», переведенные на десятки языков, и последний по времени роман «Чапаев и Пустота», уже вышедший в престижнейшей на данный момент «черненькой» серии «Вагриуса».
Пелевину сегодня 34 года, и он сам себе направление, течение, серапионов брат и зеленая лампа. Он сталкивает вещи несочетаемые: иронию и трогательную серьезность, демократизм и элитарность (в таких животрепещущих для российской интеллигенции вопросах, как буддизм и самурайский кодекс чести, Пелевин просто неприлично образован). Но вообще-то Пелевина как-то не хочется определять. Его хочется читать, пересказывать, цитировать. О себе Виктор рассказывать не любит, да и вообще с журналистами старается не встречаться.
Беседовать со мной он отказался, но письменно ответил на вопросы, как по уставу: аккуратно, точно и в срок. Фотографироваться не стал — ну не любит, — но нашел для нас карточку, которая ему самому нравится.
— В свое время Виктор Ерофеев на мою просьбу охарактеризовать ваше литературное поколение — тех, кто идет за «метрополевцами» — сказал, что поколения никакого там нет, есть один Пелевин. При этом обругал вас, конечно. Ваши комментарии.
— Мне не очень понятно, что это — «литературное поколение». Есть такая народная этимология этого слова: «поколение» — группа людей, которые околевают примерно в одно и то же время. Не очень хочется брать на себя обязательства подобного рода. Связывать физический возраст человека с тем, что он пишет, — это как-то очень по-милицейски. Непонятно, почему писателей надо группировать по возрасту, а не по весу, например. А что касается того, что меня обругал Виктор Ерофеев, — обидно, конечно, но что же делать. Экзистенциалисты — люди сложные.
— Вы про себя кем себя считаете: гуру или беллетристом?
— Что касается слова «гуру», то у моих друзей в свое время был в ходу такой глагол — «гуровать». Гурование считалось одним из самых гнусных занятий в жизни. Надеюсь, что меня в этом нельзя обвинить. Беллетристом я себя тоже не считаю. У меня, сказать по правде, нет особой необходимости кем-то себя считать.
— Как относитесь к разговорам о том, что Пелевин чуть ли не новую религию предлагает?
— Я таких разговоров не слышал. Никакой религии я никому не предлагал, но если кто-нибудь ею увлекся или даже уверовал, то я просил бы незамедлительно сдать взносы на ремонт храма. Мне надо перециклевать пол, переклеить обои, поменять пару дверей — а денег мало.
— Одна из модных тем сегодня — отношение верующего человека к другим религиям…
— По-моему, это надуманная проблема. Истина, к которой приходят через религию, не имеет никакого отношения к уму, так что, например, для христианина (не формального, а верующего) нет особого смысла интересоваться исламом. Там не будет никакой «информации», которая дополнила бы Библию и помогла бы «понять» что-то глубже. Наоборот, в голове возникнет путаница, и вместо того, чтобы стараться жить по заповедям, человек будет заниматься бессмысленными спекуляциями на тему того, кто же такой Иисус — пророк Иса или Сын Божий. Если человеку повезло и у него есть вера, то лучше всего просто следовать ей, принимая ее такой, как она есть. И не надо ни с кем сближаться, кроме Господа. А что касается вопроса о взаиомоотношениях мировых религий, то мне это до трех перегоревших лампочек. «Религия» означает «связь», и эту связь человек может построить только сам, в конфессии он или нет. Но вообще от вопросов на религиозную тему мне делается неловко. Приходится говорить о божественном, а я вчера водку пил с девушками. Как-то неудобно.
— Наркотики. Вы, кажется, и не скрывали, что экспериментируете с ними?