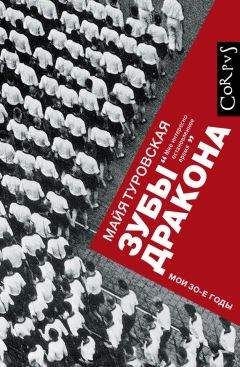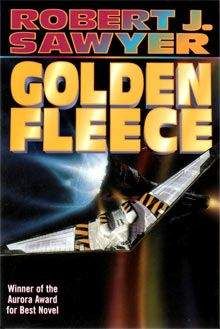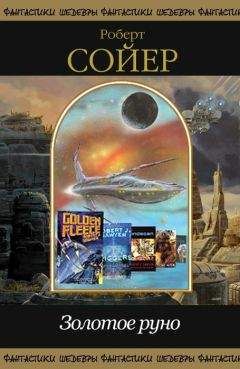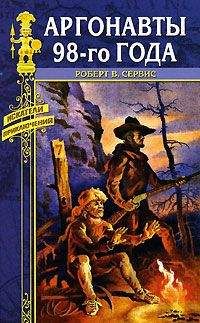С тяжелым грохотом падают якоря. Подымаются бокалы, провозглашаются тосты и мощно разносится застольная песня. «За нашу страну и за гения свободного человечества Сталина»[233].
На знакомую нам «Волгу-Волгу» похоже мало. На экран из этого «исходника» попадут отдельные мотивы и гэги – телеграмма, застрявшая на пароме, Бывалов, застрявший в провинции, меняющиеся дни недели на плахах колеса «Севрюги», костюм масленщика, в который переоделась Стрелка, и проч.
Далее история сценария уходит в затемнение, и из затемнения появляется другой, тоже еще далекий от окончательности, вариант, практически с другими героями, сюжетом и смыслом. Рассказать, как дело было, уже некому, но очевидно одно: его появление связано с именем нового соавтора, блестящего сатирика Эрдмана. Новым, впрочем, его можно назвать едва ли. Он работал с Александровым еще на «Веселых ребятах», был арестован прямо на съемках и получил три года сибирской ссылки.
Кадр из фильма «Волга-Волга».
Кое-что из истории его появления в группе «Волги-Волги» оставило следы в документах.
В июне 1936 года Эрдман, еще из ссылки, сообщает в письме к матери (его подпись в этих письмах «Мамин-Сибиряк» мгновенно разошлась по Москве):
Очень взволнован предложением Александрова работать над сценарием для двадцатилетия Октября… Работать хочу, как никогда[234].
Вс. Мейерхольд, Н. Эрдман, В. Маяковский, 1928 год.
2 декабря 1938 года в своем заявлении на имя Комиссии по частным амнистиям (копия в Президиум Союза советских писателей) он пишет:
В 1936 г., по отбытии наказания, я приехал в Москву и сейчас же приступил к работе над сценарием кинокомедии «Волга-Волга», с тем же самым коллективом, с которым до ссылки я написал комедию «Веселые ребята». В разгар работы я был вынужден покинуть Москву, так как мне было отказано в прописке[235].
Увы, ни на одном из машинописных экземпляров сценария, хранящихся в РГАЛИ, имя Эрдмана не значится. Работал он, так сказать, «негром». Но в протоколах обсуждений кое-где оно все же отложилось. Так, в «Дневнике» фильма (впрочем, по сути, не ведшемся) зафиксировано, что 2 февраля 1937 года представлен сюжет сценария, над которым «т.т. Александров и Нильсен работали совместно с т. Эрдманом». Действительно, на совещании у тогдашней замдиректора студии Соколовской Эрдман не только упомянут среди участников, но даже кратко запротоколировано его предложение построить фильм на столкновении Стрелки и Алеши Рыбкина с Бываловым:
Бывалов гнет неправильную линию, и были бы сатирические нотки. Бывалов все портит, а они преодолевают те препятствия, которые он ставит перед ними, тогда будет интереснее смеяться. Между Стрелкой и Рыбкиным спор тоже может быть, но основной спор… между ними и Бываловым[236].
Делая скидку на тупость протокола, это все же схема реального сюжета будущего фильма, не говоря о брошенных вскользь «сатирических нотках». Обсуждение состоялось 5 февраля, а уже 8 марта было подписано заключение дирекции киностудии «Мосфильм»; 9-го (совещание, на котором Эрдмана не было) Соколовская предложила послать ему заключение «и в самый кратчайший срок его сюда вызвать»[237].
Суждения, высказанные на совещании и в заключении, бросают, на мой взгляд, новый свет на восприятие еще только будущей «Волги-Волги» ее современниками. Хотя эрдмановское участие никем не оспаривается, но, мне кажется, и не принимается в расчет, что мешает оценить латентные смыслы комедии, задернутые от историков сверкающей завесой ее официального признания. Между тем для чиновников, которым надлежало отправить сценарий в ГУК, они были очевидны.
Но перед этим маленькое отступление.
Николай Эрдман вошел в советскую литературную традицию как автор «Мандата» и «Самоубийцы» – пьесы, объяснившей целому поколению интеллигенции, «почему мы еще живы», и ставшей тем самым как бы прощанием автора со своим даром. Не забудем, что, услышав 12 октября 1933 года об аресте Эрдмана за басни (его и Владимира Масса увезли прямо из Гагр, со съемок «Веселых ребят»), Булгаков «ночью… сжег часть своего романа» (о дьяволе)[238]. Но при всем сходстве язвительного склада ума обоих, при их взаимной симпатии и блестящем собеседничестве (Булгаков, как известно, даже написал личное письмо Сталину в защиту Эрдмана) Эрдман по натуре тяготел к другому жанру, расцветавшему в иные моменты истории, но так и не конституированному отечественной традицией. И дело не только в том, что ему явно не хватало благородного графоманства, просто он любил короткий метр и легкий жанр. Если Булгаков сочинял либретто для опер, то Эрдман – для оперетт. Он был, как сказали бы теперь, плейбоем: любил бега, коньяк, женщин и женился на балеринах. Если бы в России могла состояться кабаретистская культура, временно расцветавшая в «позорное и проклятое» и в 20-е, он безусловно стал бы ее Charming Prince[239]. Но железная метла соцреализма, увы, вымела всю эту блестящую, а иногда мишурную тулузлотрековщину на малоуважаемую советскую эстраду, и лишь в отдаленной перспективе конца века стало очевидно, что «клоуны» наподобие Райкина рассказали нам больше правды о нас самих, нежели их куда более уважаемые коллеги в высоком искусстве. Со своей стороны, авангард, клявшийся низкими жанрами, не узнал их в лицо в тех немногих случаях, когда они о себе заявили. Все это вместе сделало Эрдмана, даже вписанного в титры «Волги-Волги», таким же невидимкой, как почтальон в известной патер-брауновской новелле Честертона. Между тем как знакомство с «исходником» делает очевидным объем его участия в работе над сюжетом и текстом сценария.
Бывалов на пароходе «Севрюга».
Разумеется, у авторов первоначального варианта, посещавших Голливуд, был свой запас юмора, трюков и гэгов. Все же я хочу остановиться на некоторых вполне гипотетических мелочах, которые могли послужить толчком для воображения Эрдмана.
Думаю, что в «Волге-Волге»-2 очевиден непредвзятому глазу юмор далеко не безобидный, который вполне условно я назвала бы «эрдмановским слоем». Провинция и ее бюрократия после трех лет ссылки была хорошо ему знакома, а взгляд «Мамина-Сибиряка» не терял зоркости[240]. Вся в целом Мелководия, сменившая в новом варианте сценария добропорядочный советский город Камышов, я думаю, была эрдмановской.
Начнем с самого сюжета путешествия на олимпиаду. В письме к матери, предшествующем сообщению об александровском предложении, драматург пишет, что трудколония «Чекист» (как, однако ж, ему везло на это ведомство!) предложила ему большую работу, но вот беда: они уезжают в Москву на олимпиаду[241]. Случайное совпадение.
В бытность Эрдмана в Енисейске тогдашняя его возлюбленная, актриса МХАТа Ангелина Степанова, придумала и даже осуществила (посылая по почте отдельные батареи) комнатную электростанцию. Проблему освещения это не решило, но, кто знает, может быть, идею единственной «межкомнатной телефонной линии Бывалов – дворник» подтолкнуло. Знаменитый бываловский же композитор Шульберт (вместо Шуберта) мог вполне быть инициирован бытовавшей в доме Булгакова историей о читке «Мольера» на худполитсовете МХАТа, где, за отсутствием в тот день актеров, один из рабочих театра называл Мольера Миллером[242]. Подобные крупицы могли зацеплять воображение и рождать «шутки, свойственные кино»[243]. Но едва ли можно сомневаться, что житье-бытье ссыльнопоселенца не оставило у писателя иллюзий, в каком виде пребывает периферия на двадцатом году советской власти и как ею правят. Хотя жаловаться он считал ниже своего достоинства.
Разумеется, кое-что он, пройдясь «рукою мэтра», поправил в наличном тексте. Так, из длинной жалобы Бывалова, что здесь все «мелкое», он извлек квадратный корень – и получился замечательный Мелководск. Он прикоснулся к «местной промышленности» – и получилась незабываемая «совершенно мелкая кустарная промышленность» в устах секретарши Бывалова. Автор американизации купеческой «Севрюги» остался неизвестен, во всяком случае, означала она лишь уровень мелководского судоходства, а отнюдь не Голливуд.
Но если отвлечься от частностей, то весь сценарий в целом после совместной работы изменился неузнаваемо. Отпали трудовые будни с перерывом на самодеятельность и тем более трудовые подвиги (на одном из предыдущих доэрдмановских этапов сценария шлюз чуть было не заменился на прогрессивную систему бухгалтерского учета!). Зато появились идея песни и соперничество двух ансамблей, не говоря о классической для жанра «борьбе полов» (эту схему scrow ball comedy («крученый мяч» – американский термин, заимствованный из тенниса, будет впоследствии с успехом разрабатывать Эльдар Рязанов). Бывалов перестал «признавать ошибки» и превратился в того классического для русской традиции (от Капниста еще) бюрократа, текст которого разойдется на поговорки, а место не будет пустовать никогда: ни в советской, ни в постсоветской реальности (недаром тот же Игорь Ильинский появится в «оттепельной» «Карнавальной ночи» (1956), а мог бы появиться хоть сегодня, поменяв толстовку на «прикид»). Отшелушились натужные и ненужные персонажи: доктор, играющий на банках, парикмахер-изобретатель, Нюра-Голли и режиссер Святославский. Явились нужные городу и жанру водовоз, дворник, лоцман и прочие мелководские обыватели.