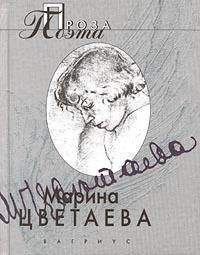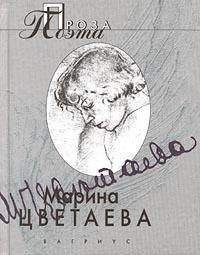(Их любовь с Павликом была взаимная ревность: Юрия — к дару, Павлика — к красоте, ревность, за невозможностью вытерпеть, решившая стать и ставшая — любовью. И еще — тайный расчет природы: вместе они были — Лорд Байрон.)
Весь он был — эманация собственной красоты. Но так как очаг (красота) естественно — сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он — ее недостойным. Все‑таки трагедия, когда лицо — лучшее в тебе и красота — главное в тебе, когда товар — всегда лицом, — твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по векселям этой красоты, режиссеры — как женщины. Все кругом ходили, просили. (Я одна подала ему на красоту.) «Но, помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал…» Нет, родной, такое лицо уже есть— посул. Только оно обещало то, чего ты не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни. Драгоценные — насквозь. Цветочные — насквозь. Или уж — святые Себастианы. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. (Откуда мне сие?) Но это не улучшало, это только ухудшало — дело. Единственный выход для мужчины — до своей красоты не снисходить, ее— презирать (пре — зри: гляди поверх). Но для этого нужно быть — больше, он же был — меньше, он сам так же обольщался, как все мы…
Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорит Ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим — одно.
Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет — и седая, чистого серебра, прядь.
И еще — с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.
Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был — фигура. Девятнадцатый год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида св. Антония, то есть всегда — одежда, всегда — туманы. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы и до нивы — гонит ветер прихотливый — золотые переливы»… серебряные). Было собирательное лицо Ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И — узнавала.
Но зря ангельский облик не дается, и было в нем что‑то от Ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по — французски organe), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу — глядел, в том, как внезапным недвижным видением в дверях— вставал, в том, как без следу — исчезал.
Его красота, ангельскость его красоты, его все‑таки чему- то — учила, чему‑то выучила, она диктовала ему шаг («он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие‑то маленькие невидимые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело, — поэтому сказать он ничего не мог (нечего было!), выказать — все.
Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы — до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может…» (Так — не любил, никак не любил.) «Какая‑то тайна…» Тайны не было. Никакой — кроме самотайны такой красоты.
Научить ступить красота может (и учит!), поступить — нет, выказать — может, высказать — нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову — нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князья — мы, «карлики Инфанты».
Не «было в нем что‑то от Ангела», а — все в нем было от Ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были — самые обыкновенные, полушкольные, полуактерские, если не лучшие его среды и возраста‑то и не худшие, и ничтожные только на фоне такой красоты.
Я сказала: в каком‑то смысле у него лица не было. Но и личины — не было. Было — обличие. Ангельская облицовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю — надгробие), но все‑таки лучше, что — было, чем — не было бы!
Ему — дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! его тогдашний возраст! — моя стихотворная россыпь «Комедь- янт», ему, о нем, о живом, тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно — синим, Осьмнадцатого века фонарем:
…да неужели ж руки И у меня потрескаются? Черт Побрал бы эту стужу! Жаль вас, руки.
(Это черт звучало нежнее лютни!) Вижу игру темно — синего света и светло — синей тени на его испуганно — свидетельствуемой руке… Ему моя пьеса (пропавшая) «Каменный ангел», каменный ангел на деревенской площади, из‑за которого невесты бросают женихов, жены— мужей, вся любовь — всю любовь, из‑за которого все топились, травились, постригались, а он — стоял… Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась — как те. Его тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке… Но о нем — другая повесть. Сказанное — только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.
Сонечка! Простим его ангельскому подобию.
Однажды я зашла к нему — с очередным даром. Его не застала, застала няньку.
— Вот книжечку принесли Юрочке почитать — и спасибо вам. Пущай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, — с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл — звонят, и только глаза смежил — звонят — и все больше с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням не в осуждение — молоденькие! а Юрочка — хорош — расхорош, завсегда хорош был, как родился, хорош был, еще на руках был — все барышни влюблялись, я и то ему: «Чего это ты, Юрий Алексаныч, уж так хорош? Не мужское это дело!» — «Да я, няня, не виноват». Конечно, не виноват, только мне — то двери отворять бегать от этого — не легче… Пущай цалуют! (все равно ничего не выцалуют), а только: коли цалуешь— так позаботься, — чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку — вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час и он: одно лицо, одна кровь — не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, — а ко мне на кухню: «Нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на кухню, так — что не любит — плакаться. И голова пуста, и руки пусты. Зато рот по — олон: пустяками да поцалуями.
А зато одна к нему ходит — золото. (Две их у меня — носят, только одна— строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них…) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: «Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаныч говорила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала». — «Дома, говорю, красавица, только спит». — «Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот — принесла ему, только вы, няня, ему не говорите…»
И пакетец сует, а в пакетце — не то чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая… И где она их берет?!
Или носки сядет штопать. «Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки». — «Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело». — «Нет уж!» — и так горячо, горячо, ласково, ласково в глаза глядит. «Вы меня барышней не зовите, а зовите — Соня, а я вас — няня». Так и стала звать — Сонечка, как малюточку.
Ну уж и любит она его — и сказать не могу!
Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш‑то все спит, не ведает!), поцалует меня в щеку — «Кланяйтесь, няня, Юрочке» — и пойдет.
Сколько раз я своему красавцу говорила: «Не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет — себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнющщую ночь к дохтору побежит, весь город на ноги поставит, а уж дохтора приведет: с такой женой болеть мо — жно! — а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую, в сыновья взяла. И ростом — под стать: ты — во — о какой, а она — ишь какая малюточка! (Мне: «Верзилы‑то завсегда малюточек любят».) Только мал золотник — да дорог.
— А он?
— Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит — вот что.
— Другую любит?
— Эх, милая вы моя, никого‑то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки.
(Я, мысленно: «И себя в зеркале».)
— Так про Сонечку — чтоб досказать. Не застанет — веселая уходит, а застанет — завсегда со слезами. Прохладный он у нас.
— Прохладный он у вас.
Зеркало — тоже прохладное.
У Сонечки была своя нянька — Марьюшка. «Замуж буду выходить — с желтым сундуком — в приданое». Не нянька — старая прислуга, но старая прислуга, зажившаяся, все равно — нянька. Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, не видала — потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердится» (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому‑то пшено…)