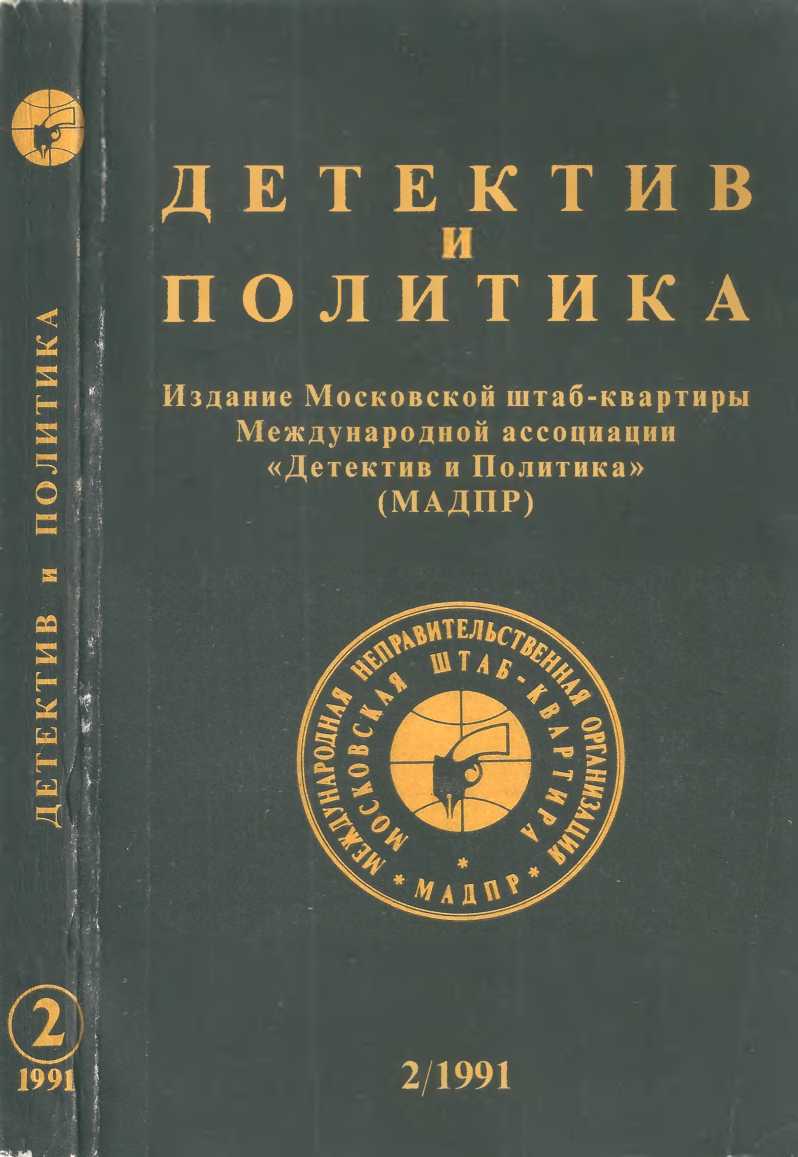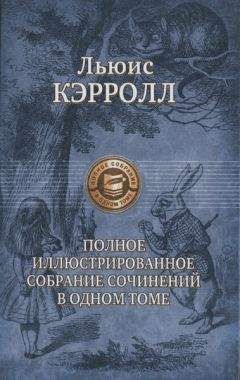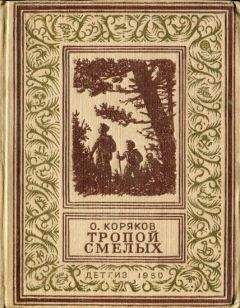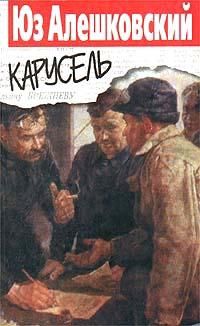стерпеть, — сказал я. Что-то в этом роде я слышал вчера в ковбойском фильме с Аланом Ладдом. Повторил, не сводя мрачного взгляда с масленки, стоявшей на столе:
— Никто не знает, сколько он может вытерпеть.
Потом я опять сидел с ведьмой, и она рассказала, что лет пять назад у нее вырезали полжелудка, а может, и все три четверти, и ей приходится часто ходить в туалет, а гости Евы мешают — интересно, "чем они там занимаются". Мне ничего не стоило объяснить ей, чем они занимаются, и я до сих пор не знаю, почему этого не сделал. А потом ушел третий клиент, и Ева снова вышла ко мне. На этот раз ей не хотелось, чтобы я ее целовал. Она вдруг зарыдала, сползла, рыдая, с моих колен и, лежа на полу, продолжала плакать — никогда ни прежде, ни потом я больше не слышал, чтобы кто-то так плакал. Так могли бы плакать мертвые, приведись им восстать из смертного сна, чтобы жить по-новой. Старуха снова поменяла простыню, а Ева все рыдала, лежа нагая на каменном полу. Я смотрел на часы: прошел час, потом еще час. Наконец Ева сказала:
— Ни за что бы не поверила, что ты выдержишь. Ни за что.
Я поднял ее с пола и какой-то тряпкой отер ей лицо. Я и сам не представлял, что смогу это выдержать; о господи, вот уж не думал, что я такой стойкий и что способен вынести так много чужого несчастья.
Я глянул на пустую бутылку из-под пива, помахал официанту и пошел к морю. Гришу я не нашел; русский старик, который держал на пляже лавку, сказал, что Гриша был и ушел, но обещал вернуться. Я разделся и лёг на песок; было жарко, хамсин длился второй день, море оцепенело — обычно в это время года волны с шумом разбиваются о бетонную набережную. Люди попрятались по домам, никто не купался, только я и еще пара-тройка туристов, не желавших признаться в своем поражении и бессильно лежавших под адским солнцем, прикрывшись газетами — "Нью-Йорк гералд трибюн" и "Джюиш кроникл". Эту публику я не терпел; они были назойливы и крикливы и в своих тропических одеждах смешно выглядели среди здешних уроженцев, прекрасных женщин и атлетического сложения мужчин, людей серьезных и скромных, которые знали, что такое тяжелый труд, умели веселиться, как дети, и молча умирали на всех границах Израиля. Глядя на тех и других, не можешь поверить, что они принадлежат к одному народу. Мне кажется, те, кто родился здесь, тоже не очень-то в это верили, да и неудивительно. Каждый день на границе погибали молодые солдаты, я постоянно читал, постоянно слышал об этом. Если этот народ когда-то постигнет беда, то, я верю, враги войдут в пустую страну, где не останется ни мужчин, ни женщин, ни детей. Родившиеся здесь сознавали трагизм своей судьбы, хотя я ни разу не слышал сетований от них самих; и потому тем труднее было мне, постороннему, слоняться по этой стране — без работы и без ощущения причастности; я знал, что тут на меня никогда и ни в чем не будут рассчитывать и что я никому не нужен. В другой стране я бы и задумываться-то об этом не стал.
Гриша пришел около трех, разделся и прыгнул в воду — он готов был плавать даже тогда, когда другой будет целый час размышлять, стоит ли поворачиваться с боку на бок. Я в жизни не встречал человека сильнее Гриши; он был стройный, почти худой, но весь в мышцах как из железа. И еще живучий как кошка, а ведь позавчерашний тип задал нам хорошую взбучку. Гриша вышел из моря; влажная кожа блестела на солнце, от головы шел пар; он лёг рядом.
— Хочешь выпить? — спросил он.
— Ясное дело, не откажусь, — сказал я. — Но хорошо бы сначала поесть.
— И не мечтай, — сказал Гриша. — Я могу выцыганить у старика бутылку коньяка. Но никакой жратвы у него в лавке нет. И вообще, зачем тебе есть? Скорее словишь кайф, если примешь натощак. У нас, в Одессе, случалось, парни пили водку, закусывая горячим супом, чтобы побыстрее окосеть.
— У вас в Одессе, — сказал я. — Давай.
Гриша встал; даже не взглянув ему вслед, я продолжал лежать на горячем песке. До меня доносились их голоса. Гриша начал с подходцем, издалека, обработать человека он умел; словно большой артист, который верит в себя и знает, что ему есть что сказать, он с толком, с расстановкой разрабатывал тему.
— Жарко сегодня, — говорил Гриша.
— Да, жарко, — подтвердил старик.
— У нас, в Одессе-маме, тоже так бывало, — говорил Гриша. Старик тоже был из Одессы.
— Что ты, — обижался старик, — разве же там была такая жара? Ведь дохнуть нечем.
— Выпить хочется, — деликатно намекал Гриша.
— Э, выпить, — говорил старик. — В хамсин пить не стоит. Выпьешь стакан-другой — и пошло-поехало. Никак не остановиться. Я на твоем месте подумал бы о здоровье.
— Дайте бутылку в долг, я на неделе отдам.
— Ну нет, — ответил старик. Знаешь, Гриша, это ведь про меня сказано: дружба дружбой, а денежкам счет. Я в кредит не отпускаю.
— Да, дяденька, вас тут как подменили, — с горечью отвечал Гриша. — В Одессе бы вас не узнали.
Перестав прислушиваться, я закрыл глаза; впрочем, их роли я знал назубок. Кончалось всегда одинаково: старик разражался страшными ругательствами и давал Грише в долг. Ругаться-то они оба были мастера и свои роли исполняли серьезно, благоговейно, не прерывая друг друга, словно два опытных актера в театре. Русские наделены чувством собственной живописности, и это в них прекрасно.
Потом Гриша лёг рядом и разлил по стаканам. Старик, высунувшись из лавки, прокричал вдогонку, что, мол, грех обманывать земляка, и замолк. Коньяк обжег огнем горло, и я вздрогнул; второй стакан пошел как по маслу. Мне сейчас было ни до чего; покой был во мне, и покой был в мире; оцепенелое море, солнце в дымке и застывшие тени пальм на берегу; в мире не было ничего, только в бессильной муке лежала сжигаемая солнцем земля, и ветер ни единым дуновением не охранял ее.
— Хамсин может продлиться все пять дней, — сказал я Грише. — Так мне почему-то кажется.
— Бывало и по восемь.
— И что?
— А ничего, — ответил он. — Выжили. И у моря, в общем, полегче.
— Полегче, — сказал я. — А ведь некоторым плевать на хамсин, они его не чувствуют.
— Не бойся, почувствуют, — сказал Гриша. — Поживут тут с наше и почувствуют. Мне тоже сначала было