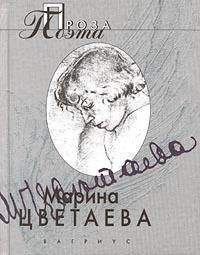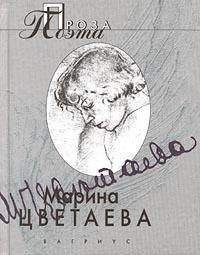Подхожу. Она, громким шепотом:
— Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!
— Что она говорит?
Аля приподымаясь:
— Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от диавола, — ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!
— Алечка, успокойся! — Володя. (Мне: — Она у вас всегда такая? Я: — Отродясь.) — Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься…
В его руке темное, но явное очертание яичка.
Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери.
— М. И., Аля у вас крепко спит?
— Крепко. Не бойтесь, Володя, она никогда не просыпается! Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва — реку.
Стоим на какой‑то набережной (все это как сон) — смотрим на реку… И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба, неизвестно почему, страшно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или сущее, внутри творящееся?
Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что‑то высматривали и — не высмотрев здесь — переходили на очередную набережную, на очередной мост, точно где‑то было определенное место, откуда — нам вдруг все станет ясно во все концы света… А может быть — совместно — со всем этим: Москва — ре- кой, мостами, местами, крестами— прощались? Мнится мне (а может быть, только снится мне), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлика — отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту Пасхальную ночь 1919 года вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, в тех же местах — возле — кремлевских.)
А может быть, друг с другом — прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, многочасовой и повсеместной — ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета — слов этой ночи — я не помню. Вся эта ночь была — жест: его ко мне. Акт — его ко мне.
В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято, в нем тверже камня утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности — дружбы, за один час которой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней…
Как это началось? (Ибо сейчас, вопреки тем мостам — начинается.)
Должно быть случайно, счастливым и заранее in den Stemen geschriebenen[188] случаем ее прихода — в его приход.
— Как, Володя, вы — здесь? Вы — тоже бываете у Марины? Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, когда меня нет?
— А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет?
— Я! Я — дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть — есть такие ужасные часы! — готова к кошке залезть на крышу — чтобы только не одной сидеть: не одной умереть, Марина! Володя, а что вы здесь делаете?
— То же, что вы, Софья Евгеньевна.
— Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете — не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие — мешали.
Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна?
— Нет, Володечка.
— А мне уйти? (Сонечка, с вызовом.)
— Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти?
Смех.
— Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс!
— Значит, мне опять придется писать ему стихи… Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему:
Beau tйnйbreux[189], вам грустно, вы больны:
Мир неоправдан — зуб болит! Вдоль нежной Раковины щеки — фуляр — как ночь…
— Фу — ляр? Клетчатый? Синий с черным. Это я его ему подарила— еще тогда — это год назад было! Я отлично помню, у меня был нашейный платок — я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! — и я к нему пришла'— а у него флюс — а я обожаю, когда больны! А особенно — когда красивые больны — тогда они добрее… (пауза)… когда леопард совсем издыхает, он страшно добрый: ну, добряк!! — и у него такая ужасно — уродливая повязка — вязаная — нянькина, и я, подумать не успев… Потом — угрызалась: папин фуляр, а у меня от папы — так мало осталось…
— Сонечка, хотите отберу? И даже выкраду?
— Что вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит!
Володя, созерцательно:
— Флюс — это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна.
— Что — о? Дурак!
Володя, так же:
— Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы, в наш век…
— Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтеллигентная болезнь»! Точно бывают — интеллигентные болезни. Болезнь, это судьба: нужно же, чтобы человек от чего‑нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь, это судьба — и всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегодня — кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это — интеллигентно?
— Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком.
— Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком?
— Никогда. Даже во сне, Сонечка.
— Я так и знала, потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы — волшебное, а не интеллигентное. «Интеллигентный человек» — Марина! — это почти такая же глупость, как сказать о ней «поэтесса». Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы!!
— Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я — дурак, а «глупы» — меньше, так что вы… разжижаете впечатление.
— А вы — еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины не видали, вы актер, вам в студии нужно быть…
(Пауза.)
— …Я не знаю, кто вы для Марины, но — Марина меня больше любит. Правда, Марина?
(Беру ее ручку и целую.)
— Ну, вот я и говорю — больше. Потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала…
(Володя: — Софья Евгеньевна!!)
…то только из жалости, за то, что вы— мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда сказано: «Та- та — та — та… Прости мне эти слезы— Убожество мое и божество!» Только — правда, Марина? — сначала божество, а потом — убожество! (Чуть ли не плача.) И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина?
Я, целуя другую ручку:
— Нет, Сонечка.
— А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась, но внутренне она вас — уже выгнала, как я только вошла — выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места, это — мое место.
— Сонечка, вы сегодня — настоящий бес!
— А вы думали — я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми — как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Левановнч говорил, что. я — бес? Бес и есть. Во всяком случае — бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон?
— Умею, Софья Евгеньевна.
— Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.
Первое попавшееся было «Ave Maria» — Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо: музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой, с минуты прихода Володи, была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе слез — ну прямо хлынувших:
— Господи боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это — рай какой‑то.
— «Ave Maria», Сонечка!
— Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это «Танец апашей» или по крайней мере — танго.
— Это мой граммофон, Сонечка, он все умеет. Володечка, переверните пластинку.
Оборот пластинки был — «Не искушай меня без нужды» Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно — явней и полней, произнесенных бы — слышимыми бессмертными баратынскими.
— Марина! Я и это знаю! Это папа играл — когда еще был здоров… Я под это — все раннее детство засыпала! «Не искушай меня без нужды»… и как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, так только там говорят, где никакой нужды уже ни в чем— нет, — в раю, Марина! И я сейчас сама в раю, Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю…
— А в раю, Софья Евгеньевна, — тихий голос Володи, — нет ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать‑то нечего было, потому что— вины не было… И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.
Сонечка, в слезах:
— Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить — после такой музыки, одному— после такой музыки, от Марины- после такой музыки… (Пауза, еле слышно.) От меня…