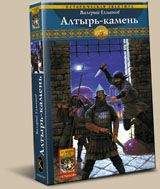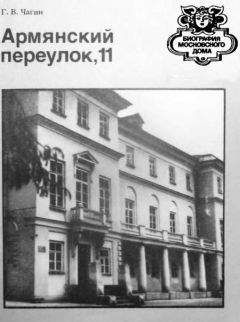Увы-увы, ничего существенного Елена Карповна поведать не смогла. Понурова ей рекомендовала подруга, Аглая Дементьевна Ярская-Кносс, которой тот очень удачно помог разыскать сбежавшую левретку. Ничего больше графиня о нем не знала.
— Что ж, честь имею кланяться, — поднялся с кресла Удальцев… и замер на месте.
Чудесное видение возникло на пороге кабинета. И надо вам сказать, что глаза у видения были огромными и небесно голубыми, точь-в-точь как у маменьки, однако сражённому в самое сердце Титу Ардалионовичу они отчего-то вовсе не показались глупыми. Видение же мелькнуло, и исчезло.
— Рекомендую, моя дочь Лизанька, — запоздало представила графиня. — Бедняжка сделалась такой нервной с… с того дня… А вы, юноша, ведь в Сыскном отделении служите? Скажите, не известно ли вам имя некоего Ивенского?
— Известно, как же, — подтвердил Удальцев жестоко. — Роман Григорьевич — мой непосредственный начальник. Право, замечательный человек, каких поискать! А что, вам он тоже знаком?
Такой вот разговор состоялся у них. И всю дорогу до Кузнецкого, где проживал следующий свидетель, Удальцев гадал, как ему теперь поступить. С одной стороны, он сам заверил графиню, что будет молчать. Елена Карповна, конечно, дура, иначе не назовёшь, но это, к сожалению, не освобождает его от уже данного обещания. С другой стороны, зачем бы ей так откровенничать с человеком незнакомым и совершенно для неё незначительным, если бы она не рассчитывала, что тот передаст слова сожаления отвергнутому жениху? А он вот возьмёт, и не передаст! Назло!.. Да. И окончательно разрушит счастье Романа Григорьевича. Несомненно, тот сразу догадался о причине странного поведения своей невесты, как только увидел имя её матери в списке клиентов убиенного Понурова, понял, отчего и по чьей воле она так переменилась к нему. Но может быть, не всё ещё потеряно? Ведь бедная девушка ни в чём не виновата, её просто околдовали против воли! Роман Григорьевич не должен её строго судить… Да. Определёно, он передаст ему этот разговор. В конце концов, это его служебная обязанность — докладывать начальству всё… ну, или почти всё. О «скромном положении и невысокой должности» можно будет не упоминать, как-нибудь обойти. Остальное же надо передать, а там уж пусть сам решает, как ему быть.
Приняв это решение, разволновавшийся юноша отчасти успокоился. Почему только отчасти? Да потому что не шло из головы чудесное видение, возникшее на пороге графского кабинета, как ни гнал он мысли о нём, сколько ни твердил себе с горечью: уж если такой блестящий молодой человек, как пристав Ивенский, пришёлся Золиным не ко двору, на что надеяться простому сыскному инспектору, чиновнику четырнадцатого класса? Графиня, конечно, большая дура, но в одном она права: несправедливо устроен этот мир!
Чтобы забыться, отвлечься от нахлынувшей душевной тоски, Удальцев до самого вечера опрашивал свидетелей из списка, сначала ходил по адресам пешком, из экономии, потом так утомился, что нанял извозчика, и потратил на него последний рубль, в надежде, что назавтра ему возместят расход из кассы. За день он успел опросить множество народу, были среди них чиновники, подрядчики, купцы богатые и средней руки, и жёны их. Были портные и белошвейки, учителя из гимназии, воспитатели из приюта, две актрисы из театра и один музыкант. Каждый шёл к магу Понурову со своей печалью, но всех объединяло одно: о частной жизни его не было известно никому… Или кто-то не пожелал сказать правду?
Утром понедельника Ивенский с Удальцевым столкнулись нос к носу у дверей: Роман Григорьевич снова явился на службу раньше обычного, на этот раз потому, что до места его доставил отцовский крытый экипаж. При этом лошадь умудрилась не понести, карета ни разу не перевернулась, и даже колесо отскакивать не стало. Тяжёлые предметы на голову тоже больше не падали, из чего Роман Григорьевич заключил, что чёрная полоса осталась позади, и воспрянул духом. На подступах к дверям управления было безлюдно до умиления. Ещё с вечера субботы господин второй пристав предупредил, что приёма не будет, и велел гнать от ворот всех — и жалобщиков, и доносчиков. Дежурному так понравилось это занятие, что он и их благородиям отворил не сразу, сначала орал из-за двери «пошли прочь!», а отворив, долго и униженно извинялся, что «через штатскую одёжу не сразу признал» — по случаю следственных действий Роман Григорьевич был одет в партикулярное: короткое пальто, новомодный пиджак и тёмно-серые брюки. Костюм сидел на нём достаточно изящно, но чем-то неуловимо напоминал армейский мундир. Или дело было не в самом костюме, а в выправке его обладателя?
Зайдя в свой кабинет, Роман Григорьевич, вместо того, чтобы занять место за столом, уселся на край столешницы и принялся качать ногой, немного шокировав своего подчинённого.
— Ну-с, на чём мы с вами остановились, Удальцев… вы ведь не будете в обиде, если я стану звать вас по фамилии? Имя ваше, Тит Ардалионович, очень красиво, но согласитесь, немного длинновато для служебных разговоров.
Юноша от души согласился. Имя своё он терпеть не мог, точнее, его первую, короткую часть. Вот отцово имя Удальцеву-младшему нравилось, как ни произноси: можно раскатисто: Ар-р-р-далион, можно коротко и лихо: Ардальон. Так и так хорошо звучит. А своё — не нравилось категорически. Угораздило же маменьку измыслить этого «Титушку»! Ладно, звали бы Титом кого-то из славных предков — не так обидно было бы пострадать за родовую честь! Но нет! В романе вычитала и нарекла первенца! А его, бедного, аж передёргивало всего, когда младшие дети бегали по дому и звали брата: «Титя, Титя! Где Титя?» Пуще огня боялся он, что эту «титю» однажды услышит кто-то из товарищей по гимназии — тогда хоть руки на себя накладывай. Ничего, обошлось, но неприятный осадок остался на всю жизнь.
— Итак, мы составили списки свидетелей. Поедем по адресам, начнём опрашивать?
— А ведь я, Роман Григорьевич, по двадцати трём адресам успел вчера! — не без гордости доложил инспектор.
— Неужели? Какой же вы молодец! — похвалил пристав от души, но вдруг помрачнел и напрягся. — Скажите. У Золиных вы тоже побывали?
— Побывал, — подтвердил Удальцев потупившись. Трудный момент наступил.
— И каким же вышел ваш разговор? — Роман Григорьевич старался казаться равнодушным — качал ногой, смотрел в окно — но лицо его заметно побледнело, выдавая волнение.
Тщательно подбирая слова, и делая вид, будто он сам даже не догадывается, о ком идёт речь, Удальцев изложил начальнику суть вчерашней истории. Тот слушал не перебивая, чуть не до крови кусал губу. Потом, помолчав, уточнил.