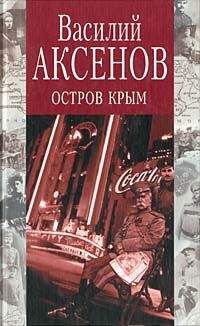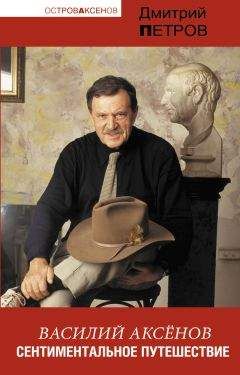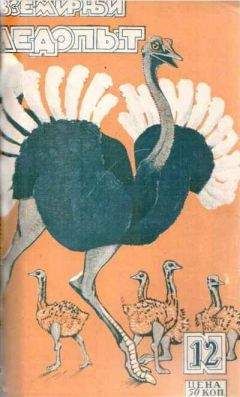Вскочил какой-то чудесный юноша с лейтенантскими значками в петлицах, махнул пилоткой, прокричал:
— Мы летаем в любую погоду, Андрей!
Аудитория восторженно взревела. Полковник Чернок закурил сигариллос. Андрей грустновато улыбался. Миссис Паролей (кажется, есть такая травка в бульон) демонстрировала одну лишь безграничную преданность своему владыке.
Экая хитроумная бестия, вдруг с отчетливой злобой подумал Кузенков о Лучникове. Агитация от обратного! Пугает людей «мраком и туманом», а достигает желаемого восторга, отваги. Что происходит с этими людьми? Вновь и вновь Солженицын увещевает их с телеэкранов — остановитесь, одумайтесь! Все его с благоговением слушают, а потом приходят к сногсшибательному выводу: только великая земля могла взрастить столь могучую личность, только великий Советский Союз! Может быть, на такой степени процветания у человека всегда возникает эдакий вывих в сторону бессмысленных вдохновений? Как умудрился Лучников так глубоко проникнуть в психологию островитян? Может быть, и впрямь в КГБ его этому научили? Кузенков, однако, достоверно знал, что верхушка Комитета вовсе не стремится к захвату Крыма: ведь пропадает такое чудное рабочее поле. Нет, просто Андрей сам — один из островитян, один из «лучших».
Ти-Ви-Миг, по своему обыкновению, зафиксировал физиономию Лучникова. Странное сочетание: хищноватая улыбка и грустный, если не тоскливый, взгляд.
— Подонок! — Кузенков поднес кулак к физиономии бывшего друга. Подонок во всем: и родных своих забыл, и любимую выбросил, и даже такая мелочь — не удосужился за все эти месяцы старого друга найти. Все поглотила садомазохистская идея, снобизм, доведенный до абсурда.
— Совершенно с вами согласен, Марлен Михайлович, — прозвучал поблизости несколько проржавленный голосишко.
Кузенков отскочил от телевизора. В номер въезжала колясочка с его «скромным ужином» — целый набор подносов и подносиков, прикрытых серебряными крышками, плюс бутылка виски. Колясочку толкал слуга, средних лет костлявый субъект с улыбочкой, обнажающей анемичные десны, седоватые крылья волос падали на глаза.
— Вы нашли точное слово, — сказал слуга. — Андрей Лучников — нравственный подонок. Я его знаю с детских лет, мы вместе учились в Симферопольской Гимназии Имени Царя-Освободителя.
Кузенков молча смотрел на слугу и уже понимал, что это вовсе не слуга, что он, может быть, зря отослал Лопатова, что его здесь ждали, что нужно немедленно звонить г-ну Коккинаки, если это уже не поздно.
Фальшивый слуга склонил голову и слегка подщелкнул каблуками.
— Разрешите представиться. Юрий Игнатьев-Игнатьев, — сказал он. — Простите великодушно, но это была единственная возможность предстать перед вами, а в этом у меня есть крайняя нужда.
Подкинув фалды, как в XIX веке, Игнатьев-Игнатьев присел на кресло, но кресло было современным, «утопляющим», нагловатое, нарочито старомодное движение не соответствовало дизайну. Он как-то нелепо провалился и, чтобы соответствовать этому креслу, дерзко закинул ногу на ногу. Смещение времен и стилей оказалось столь дурацким, что Марлен Михайлович, несмотря на напряжение, усмехнулся.
— Игнатьев-Игнатьев? — сказал он ледяным тоном. — «Волчесотенец»? Знаю о вас немало.
— В прошлом, любезнейший Марлен Михайлович, — сказал Игнатьев-Игнатьев, подчищая себе ногти как бы небрежно, стильно и вновь фальшиво. — «Волчья Сотня» вычистила меня из своих рядов, и я горд, что это произошло за несколько дней до того, как они продались СОСу. Теперь я член партии «коммунисты-нефтяники»…
— Браво, браво, — сказал Марлен Михайлович. — Из «ВС» в «КН». Поздравляю. Однако не могли бы вы оставить меня одного? Я не вполне…
— Более того, я вошел в ЦК этой партии и сейчас хотел бы говорить с вами не как частное лицо, но как член ЦК… — Игнатьев-Игнатьев вопросительно протянул руку к бутылке.
— Не трогайте виски, — с неожиданной для себя грубостью сказал Кузенков.
Изображение Лучникова уже исчезло с экрана. Теперь Ти-Ви-Миг, захлебываясь, повествовал о драме, разыгравшейся в ялтинском «Мажестике»: Лючия Кларк нашла в постели продюсера Джека Хэлоуэя местную аристократку Нессельроде! В то время как… и так далее, и тому подобное. Среди интервьюируемых персон мелькнул на минуту и недавний эмигрант кинорежиссер Виталий Гангут. Он категорически отмежевывался от постельной истории, заявляя, что на Лючию Кларк он «кладет» (неясное место, господа, позднее постараемся уточнить), а Лидочку Нессельроде «видал в гробу» (последуют разъяснения, милостидари), из всей остальной «шараги» знать никого не желает, а Осьминога ценит как сильно «секущего» в кино продюсера. Без всякого сомнения, интервьюируемый был слегка или основательно навеселе. Ему был задан вопрос: кстати, правда ли, что вы совместно с Хэлоуэем вынашиваете планы сверхмощного блокбастера? Гангут хитро заулыбался, погрозил пальцем, и в таком виде был зафиксирован.
— Кажется, вы знаете и этого негодяя, товарищ Кузенков? — спросил Игнатьев-Игнатьев, кивая на экран.
— Я вам не товарищ, — рявкнул Марлен Михайлович, налил себе полный стакан виски, а бутылку недвусмысленно переставил подальше от непрошеного гостя.
— Что касается меня, то я знаю его прекрасно, — усмехнулся Игнатьев-Игнатьев, ничуть не смущаясь. — Витя Гангут — нравственный урод и алкоголик. Дружок нашего героя. Видимо, предательство Родины у этих господ в крови.
После стакана виски все вспыхнуло ярким светом и юмором.
— Не позволить ли вам выйти вон, милостидарь, радетель Родины? — сказал Кузенков Игнатьеву-Игнатьеву и резко показал ему на дверь. В жесте было что-то ленинское.
Зашевелилось лицо Гангута на телеэкране. В ответ на вопрос о СОСе он сморщился, будто прихлопнул на шее комара, и пробормотал:
— Презираю…
Замелькало что-то зарубежное. Ти-Ви-Миг шуровал с одинаковым успехом по всему миру. Нефть, развратные морды шейхов и революционных лидеров, террористы, плейбои, ученые, спортсмены, модели и маргаритки.
— Да, я радетель Родины своей, — надуваясь спесью, заговорил Игнатьев-Игнатьев и снова потянулся к бутылке, но Марлен Михайлович вновь ее переставил подальше, — ради борьбы с врагами ея, со сволочью вроде Лучникова, готов соединиться даже с «коммунистами-нефтяниками», с самим дьяволом…
— Под Родиной вы что подразумеваете? — спросил Марлен Михаилович.
Глаза Игнатьева-Игнатьева радостно сверкнули — ага, не выгоняют! Все-таки начинается же диалог же!
— Мое понятие Родины прежде всего отличается от лучниковского, — быстро, едва не захлебываясь, проговорил он.