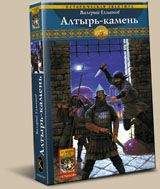Понять старика было можно. Хоть все обители обойди, а где ты еще такого монаха найдешь, чтобы его сам царь буквицам новым обучал. Лучше и не трудиться попусту – все равно не сыскать.
Азбуку же, по которой отец Авва учился, он перед смертью завещал ему в домовину [182] положить – не захотел расставаться с ней. Так и лежал в гробу, прижимая ее руками к груди. Иные при отпевании перешептывались боязливо: «И как теперь без Аввы государь обходиться будет? Тяжко ему придется».
Происходило такое не только с принятием нового алфавита. Едва один человек из их квартета что-то затевал, как тут же выяснялось, что ему нужна помощь остальных, иначе никак.
Потому и редко, крайне редко баловали друзья своих домочадцев. Взять самого Константина. Две девчонки у него. Старшенькая, Светлана, которую во крещении нарекли Анастасией, считай, уже невеста, красавица писаная, а много ей отцовского тепла досталось?
То же самое крошка Дара, Дарена, Дарьюшка. Ее патриарх Ириной назвал. Маленькая, веселая, а проказница такая, что только держись. И тоже безотцовщина. Ведь те часы, что Константин провел с ней, по пальцам перечесть можно.
А Ростиславу взять. Любимая и желанная, она в каждых неудачных родах виноватила себя одну – ушла ведь из монастыря, да и ранее не мужа венчанного любила, как должно, а чужого князя. Вот и получает теперь кару, да какую – двух дочерей и трех сыновей в домовину уложили, и каждому не больше двух месяцев было, а то и вовсе мертвенькими рождались.
– За то господь и карает, – вздыхала тоскливо.
Не помогало и то, что сам патриарх отпустил уже ей все эти грехи, причем неоднократно.
– А ведь виноват на самом деле ты, – как-то хмуро заметил владыка в откровенной беседе с Константином.
Тот даже опешил поначалу.
– Ты про грехи, что ли?! – возмутился он. – Или на дружбу с волхвами намекаешь?
– А чего на небо заглядываться, когда истина гораздо ближе лежит, – ответил Мефодий и напомнил: – Думаешь, церковь просто так инцест воспрещает?
– Ты что, владыка, белены объелся, – искренне удивился Константин. – Мне Ростислава ни мать, ни дочь, ни сестра.
– А ты слыхал такое – до седьмого колена браки между родней воспрещены? Эх, меня на Руси не было, когда ты ее под венец повел, – сокрушенно вздохнул владыка.
– А при чем здесь седьмые коленки?
– При том! – сурово обрезал патриарх. – Ее отец – это твой брат, хоть и двоюродный! Забыл?!
Константин так и сел. А ведь и впрямь. Сам же прекрасно помнил, что мать Мстислава Удалого, она же бабка Ростиславы, ему самому доводится родной теткой. Крепка, видать, оказалась кровь Доброславы, дочки рязанского князя Глеба Ростиславича.
– И что мне теперь делать, владыка Мефодий? – спросил он подавленно.
– Да ты уже и так все сделал. Остается только жить, – туманно ответил патриарх. – На молитву тебя не гоню – ее из-под палки честь вдвойне грешно. Да и о какой молитве можно говорить, коли ты… Монастыри обходить если, – протянул он задумчиво. – Так для этого тоже вера надобна. Ладно, чего уж. Наследник есть, ну и пускай… Ты бы ей самой внимания побольше уделял, – посоветовал он.
А когда его уделять, коли он до глубокой ночи сидит над бумагами: отчеты, донесения, доклады, сведения… Либо читает, либо сам пером строчит. Для этого другого времени нет. Днем-то не поработаешь, днем – люди. Да тут еще и, смешно сказать, одно время лекции писать приходилось, и не одну. Сейчас-то уже полегче стало, а поначалу…
Указ об основании рязанского университета Константин подписал еще в 1231 году. Причем, вспомнив, как весело праздновали его сокурсники Татьянин день, он специально датировал его именно 25 января. Пускай хоть здесь все остается по-старому – тут можно. Ну, подписать-то подписал, а где преподавателей сыскать?
Разумеется, еще задолго до этого дня все русские посольства, которые ехали на Восток, среди разнообразных задач имели одно неизменное поручение – поиск ученых людей. Западных это не касалось.
С немытой и закостеневшей в своем невежестве Европы спрашивать мудрецов-философов все равно что мыть грязные руки в нечистотах и верить, что они и впрямь станут чище. Университеты, отданные к тому времени на попечение папы римского, включая и парижский, усердно трудились исключительно над богословием, да и там преимущественно над тем, как бы половчее обосновать величие папского престола.
С востоком иное. В подмогу послам он разработал опознавательную схему, основывающуюся на ключевых именах Ибн Сины, Омара Хайяма, Бируни, аль-Фараби и так далее. Предполагалось, что те люди, которым знакомы эти талантливые ученые – философы, врачи, математики, астрономы и просто вольнодумцы-поэты, и сами заслуживают особого внимания. Ну а дальше по обстановке.
Понятно, что всем, кто выезжает, заниматься непосредственным поиском будет недосуг. В конце-то концов, не за этим они едут в далекие страны. Точнее, не только за этим – иных поручений хватает. Поэтому в каждое из посольств включался особый человечек, что-то типа атташе по культуре, образованию, медицине и градостроительству. Вот его-то деятельность и была целиком направлена на поиск и приглашение таких людей.
Понятно, что далеко не всегда такие поиски заканчивались удачей. Очень часто сконфуженные «атташе» по приезду на Русь сконфуженно разводили руками, но бывало и иное.
Так, в 1232 году, аккурат незадолго до открытия медицинского университета, – Константин сдержал слово и основал его следом за первым, только годом позже, – на Руси в помощь царскому лекарю Мойше появился блистательный Ибн-Бейтар [183] .
Это в той «официальной» истории он осел в Дамаске, где впоследствии и умер. А в этой он просто до него не успел доехать. Божен Чудинкович, пребывая в атабекском Мосуле, не преминул пообщаться со знаменитым арабским историком Ибн-аль-Асиром [184] и в разговоре с ним уловил любопытное для себя имя.
Потом была личная встреча, и в конечном итоге заядлый путешественник согласился поехать в неведомые земли, где, как он предвкушал, его глазам откроются новые невиданные травы, цветы и деревья.
К сожалению, для научных изысканий времени у него оставалось не так уж и много, его отнимала работа со студентами, но зато с каким удовольствием летом, во время студенческих каникул, он бродил по новым местам, имея охранную грамоту от самого царя и наиболее одаренных учеников в качестве сопровождающих.
Свой титанический труд «Джами мафрадат эль-адвие», подаренный царю в 1237 году, он все равно написал на арабском, но это уже было несущественно. В обязательное обучение студентов входила не только медицина как таковая, но и углубленное знание арабского языка – в эти времена без него все равно было не обойтись.