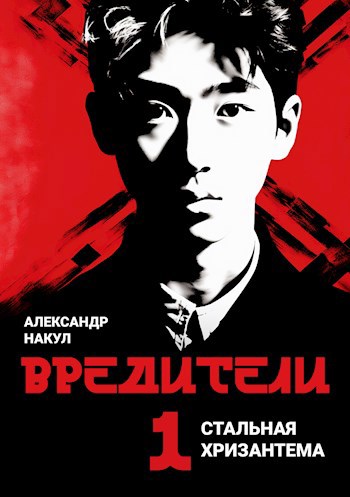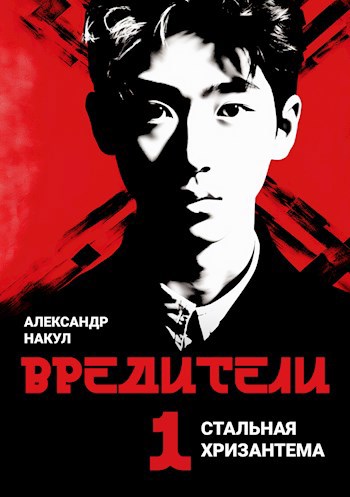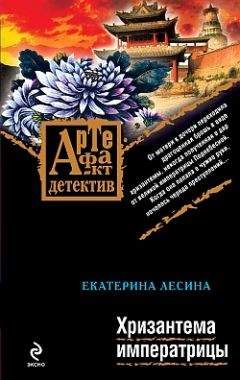не унывал. Он по-прежнему принимал гостей из прежних партнёров и интересовался у бабушки, сколько стоит завести любовницу. Вспышки ярости, которые извергала побочная дочь благородных семейств, каждый раз доводили его до хохота.
Бабушку, однако, было не разжалобить юмором. Хоть и равнодушная к религии, она каждый раз напоминала непутёвому мужу, что даже где-то там в сутрах сказано: “То сейчас лижет сладкую росу, будет глотать железные шары”
Много позже, когда Кимитакэ уже исполнилось девять, отец появился в доме, решительно зашагал в дедушкину комнату и швырнул прямо на доску для сёги вечернюю газету. Там опять писали про дедушку. Семидесятилетний отставной губернатор опять ухитрился угодить под суд за очередные финансовые махинации.
― Вот видишь, сынок,― сказал на это дедушка, ласково улыбаясь,― на что-то твой старенький отец ещё способен.
Засадить его в тюрьму не смогли и на этот раз. А может, просто решили не возиться с этим вонючим стариком, который и так скоро помрёт от причин естественных. Пускай доживает!
И в конце концов ― разве не такие люди, как он, строили новую Японию после Реставрации Мэйдзи?
***
Кимитакэ уже было почти пятнадцать лет, он почти всё понимал и потому хорошо запомнил, что произошло.
К тому же, после смерти бабушки между ним и стариком стало ещё больше доверия ― хотя мать, отец и братья теперь тоже перебралась в старый особняк, чтобы сэкономить и заодно не смущать Ассоциацию Соседей излишней роскошью. Слуг теперь осталось только трое, зато вместе с семьёй переехали оба кота.
Дедушка обожал толковать о вещах, которые возмущали отца ― как возмущает евнуха даже самая невинная песенка о любви.
Иногда он даже просил Кимитакэ показать что-нибудь из его работ ― “то, что сам считаешь лучшим”.
Он никак не комментировал увиденное. Просто какое-то время любовался работой, а потом возвращал. И почему-то это казалось лучшей похвалой.
Отец всю жизнь писал угловатым школьным почерком. Увлечение Кимитакэ он сдержанно одобрял, но постоянно его подначивал ― дескать, каждому полезно владеть каким-то ремеслом. Можно малевать вывески для публичных домов и раменных или писать за других рекомендательные письма для потенциальных работодателей. Ведь старомодные владельцы компаний до сих пор уверены, что характер работника можно определить по почерку.
Кимитакэ долго и бесплодно пытался объяснить отцу, что почерк и характер не могут связаны и что при должном упорстве можно освоить любой почерк, хоть классический, хоть неумелый. Причём неумелый подделать куда сложнее.
Отец в ответ возражал, что Кимитакэ не видит этого Например, ― хватит ли у кандидата хитрости нанять профессионального каллиграфа.
Дедушка, напротив, считал ненужные вещи проявлением подлинного аристократизма и высокой культуры. Потому что человек низкий жизнь проживает, а культурный ― стремится её украшать.
***
Это случилось душным, звенящим от напряжения летним вечером. Не помогала даже дверь, распахнутая в садик. Сам воздух пропитан был ужасом.
Много позже, сидя над дневником и вспоминая этот эпизод, Кимитакэ задумался ― точно ли воздух был пропитан ужасом или стал таким уже в воспоминании? Быть может, так и работает сильное потрясение ― словно чай, пролитый на страницу, он окрашивает в свой цвет испуга и прошлое, и будущее, так что мы начинаем вспоминать их совсем по-другому. На этом могут быть основаны легенды о вещих снах и тревожных предчувствиях ― ужасное происшествие просто окрашивало воспоминания несчастливого дня в свои краски.
И именно это объясняло, почему люди, несмотря на все предвестья бед, чуяли их ― но не делали ничего, чтобы предотвратить.
Письмо пришло с вечерней газетой. Газету дедушка просмотрел и отшвырнул ― он читал только те статьи, в которых упоминался он сам, и ещё роман с продолжаением на предпоследней странице. Но сейчас ему было не до литературы.
Вместе с газетой пришло письмо ― большая редкость в то время. На конверте из неожиданно дорогой и плотной для военных времён бумаги, стоял только адрес и имя, старательно выписанные в не очень популярном стиле чжанцао.
На почте конверт специально завернули в газету, чтобы не вызвать подозрений у излишне ретивых активистов Ассоциации Соседей.
Дедушка держал запечатанный конверт двумя пальцами и смотрел на него, как на величайшую драгоценность.
― Кто знает, внучек, может быть, это от женщины…― мечтательно произнёс он.
― От какой женщины?― спросил Кимитакэ.
― Сейчас вот узнаем. Пахнет,― Садотаро понюхал конверт,― почему-то глицинией.
Он нацепил пенсне и долго искал канцелярский нож ― потому что рвать такой прекрасный конверт было бы непристойно. В конце концов Кимитакэ не выдержал и сбегал за своим. Садотаро осторожно разрезал бок конверта, потом поднялся и подошёл к открытой двери, что вела в сад.
Почему-то все важные или хотя бы проникновенные письма хочется читать на пороге в сад, словно хэйянские аристократы, и чтобы луна выглядывала из-за чёрной вязи ветвей ― тем более, что как раз стояло роскошное полнолуние.
Он достал из конверта лист такой же изысканной рисовой бумаги. Обратная сторона была чистой. Развернул. В письме был написан один-единственный иероглиф.
Кимитакэ запомнил этот иероглиф на всю жизнь. Но не записал его в дневник и никогда никому не говорил, что это был за значок.
Поэтому мы не знаем, что именно там было.
Какое-то время старик просто озадаченно рассматривал бумагу.
А потом внезапно иероглиф ответил.
Он вздрогнул. А потом вдруг быстро, как язык лягушки, хватающей комара, вырвался из страницы и врезался старику под горло.