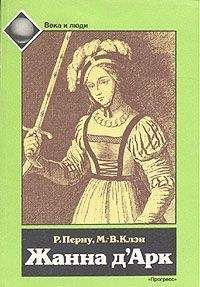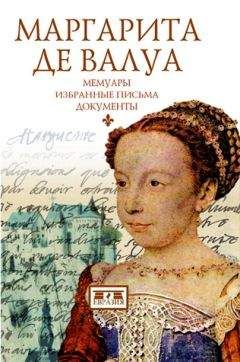Кошон заёрзал и зло посмотрел на архиепископа. Похоже, ему доставляет удовольствие ковырять эту болезненную рану – потерю епископом своего доходного диоцеза. Но де Шартр вдруг стёр с лица сострадание и, откинувшись в высоком кресле, заговорил, наконец, по-деловому, словно и не было между ними только что лицемерной и бесполезной беседы.
– Нужно время, Кошон, чтобы продажа этой девицы вашему регенту никого не побудила к каким-то решительным действиям. Мало сказать «виновна», нужно ещё и доказать! А доказательства – это документы, которые пишутся и подписываются…
Он побарабанил кончиками пальцев друг о друга и внезапно спросил, не слишком, впрочем, ожидая ответа:
– Вы знаете отца Паскераля? Это бывший духовник нашей Девы. Честнейший человек, глубоко преданный своим убеждениям! А надо сказать, его убеждения – образец нравственности для всех нас! Так вот, недавно мы много часов провели в беседе о том, насколько Жанна была разумна и неразумна в своих делах, и, знаете, преподобный Паскераль согласился со мной, что многие её поступки не соотносимы со званием Божьей посланницы! Это было как раз после того, как пришли сведения о казни этого бургундского капитана… Как там его?..
– Франк д» Аррас, – подсказал Кошон.
– Ну да… – кивнул архиепископ. – Преподобный Паскераль понимал, как и я, что нужно сделать всё возможное, чтобы такое грязное пятно на делах Девы было скомпенсировано чем-то, что будет сделано во славу Господа и угодно ему. Я предложил выход, по многим причинам спорный, но отец Паскераль, поколебавшись, всё-таки признал его вполне приемлемым, (чем, кстати, снял груз с моей души), и мы… Не думаю, что мы согрешили. А если и согрешили, то только перед Девой. Однако, всё, что сделано во славу истинной веры должно быть принято и ей…
Кошон, который только-только начал заинтересовываться беседой, с лёгким холодком раздражения подумал, что архиепископ сейчас снова уведёт разговор в сторону общих рассуждений. Но тот, похоже, впал в многословие просто потому, что не желал называть вещи своими именами и только выражением глаз подсказывал собеседнику, что и как следует воспринимать.
– Её авторитет и влияние, как в войске, так и в среде горожан, были столь велики, что мы, служители церкви, просто не имели права их не использовать ради укрепления веры. И, между прочим, ради блага самой Жанны. И, если сама она, по своей ли природной упрямости, или в силу каких-то иных причин, далеко не всё делала для прославления имени Божьего, мы с отцом Паскералем решили хоть немного дело исправить и, пока не стало всем очевидно, что посланница миссию свою не исполняла, как дОлжно, воздать ей, хоть немного, той славой, которую она… ну, говоря честно, заслужила не вполне…
Кошон замер, начиная понимать, а архиепископ с вялой медлительностью, потянулся к медному колокольцу и несильно тряхнул им, наполняя комнату звоном, неожиданно мягким. Тут же в дверь просочился почтительный секретарь со стопкой бумаг, явно заранее приготовленных.
– Вот, взгляните, Кошон, – сказал де Шартр, осторожно снимая верхний листок. – Это копия письма, которое недавно было отослано чешскому королю Сигизмунду. Прочтите и скажите, разве это не торжество истинной веры?!
Секретарь, не теряя почтительности, перехватил бумагу и поднёс её епископу.
Тот бегло ознакомился с содержанием и, не сдержался, хмыкнул. Ай да, архиепископ! Ай да Шартр!
Письмо представляло собой обращение Жанны к чешским повстанцам-гуситам, которых она корила за вероотступничество, и которым угрожала расправой, если посмеют ослушаться. Подписал письмо отец Паскераль от имени Девы, якобы не умеющей начертать собственное имя. Но тон письма не оставлял сомнений в том, что это не мирные поповские увещевания, а откровенный военный ультиматум! Причём, составленный так грубо, в лоб, так примитивно-амбициозно, что назвать его подлогом не поворачивался язык. Кошон по опыту знал – всякая ложь, доведённая до абсурда, начинает балансировать на той тонкой грани, за которой её начинают признавать за правду. И чем проще, чем прямолинейней подход к этому абсурду, тем быстрее ложь переходит за грань.
– Вы представляете как благодарен нам теперь австрийский эрцгерцог48? – спрашивал тем временем де Шартр. – И здесь, – он потряс остальными бумагами, – свидетельства, тщательно отобранные нами среди всех домыслов о Деве, с доказательствами и датами на случай какой-либо проверки. Чтобы вы хорошо поняли, я прочту…
Архиепископ взял следующий листок, сощурил близорукие глаза и, почти торжественно начал зачитывать, а Кошон просто обмяк на своём стуле.
О да! Он способен был оценить дела подобного размаха!
Письмо и свидетельства, судя по всему, были заготовлены ещё зимой. А это могло означать только то, что Ла Тремуй не обманул, и французский король действительно хотел избавиться от Жанны и сейчас спасать её, скорей всего, не будет. Но, прекрасно понимая какого рода процесс собираются над ней учинить, подготовился основательно. Любую из этих бумаг, при желании, можно было трактовать и, как борьбу с ересью во имя единой католической Церкви, и прямо противоположно – как превышение полномочий, с той же самой ересью граничащее. То есть, по сути, архиепископ, которого власть французского короля более чем устраивала, давал сейчас понять Кошону, что процесс над Жанной состоится только в том случае, если обвинения в колдовстве не поставят под сомнение коронацию Шарля Валуа. Иначе французская сторона подаст апелляцию папе с предоставлением всех этих свидетельств, которые охотно и весомо поддержат и чешский король, и австрийский эрцгерцог, и получится так, что Кошон всеми силами хочет отправить на костёр ярую защитницу истинной веры.
Архиепископ закончил читать и даже не посмотрел на Кошона, в сообразительности которого не сомневался. Просто передал листок секретарю и жестом его отпустил, пронаблюдав, как почтительно, почти ласково, секретарь извлёк письмо к гуситам из руки епископа и исчез за дверью.
Кошон прочистил горло.
– Впечатляет, – промямлил он без особого энтузиазма.
Призрак доходной должности, способной компенсировать потерю Бове, медленно таял в туманной теперь перспективе.
– После подобных свидетельств вашему королю просто необходимо выкупать свою Деву любой ценой.
– А вашему регенту наказать её за ересь с бОльшими основаниями.
Оба прелата посмотрели друг на друга уже без показного благочестия.
– Давайте начистоту, – предложил де Шартр. – Мы прекрасно понимаем, насколько важно его сиятельству герцогу Бэдфордскому казнить Деву Франции, как ведьму. С одной стороны, это решило бы и многие наши проблемы. Говоря «наши» я имею в виду, конечно же, французскую церковь, которая больше потеряет, чем приобретёт, останься Жанна популярной, как прежде. Своей простотой и подчеркнутым принятием одной только Божьей воли, она многих может ввести в опасное заблуждение. Этак каждый решит, что повиновение королю и отцам Церкви – дело второстепенное. А там и до открытого бунта рукой подать! Явится такой вот новый Гус, и всё… Но казнь на условиях, нужных Бэдфорду, создаст другие проблемы, уже французскому государству, а меня, дорогой Кошон, как и многих, более достойных людей, нынешний король полностью устраивает. Поэтому, давайте прямо сейчас договоримся – обвиняйте Жанну в чём угодно и как угодно, лишь бы это не бросало тень на правомочность коронации. В противном случае, наш король выкупит девушку сам и заключит новый мирный договор с Бургундией, за что ваш король и, самое главное, парламент, как вы понимаете, регента по головке не погладят.
Кошон хмыкнул.
– Что вы подразумеваете под словом «договоримся»? – спросил он.
Его так любезно «прижали к стене», что изображать обиду или полное непонимание было просто невежливо. Де Шартр мог бы поступить куда жестче и сразу предъявить ультиматум, а не предлагать договариваться. Но он не мог не понимать, что прямо сейчас договориться не получится и, возможно, любезное предложение это всего лишь мягкая форма ультиматума, потому что, как ни крути, а условия здесь ставит французская сторона. И Кошон, которому теперь нужно возвращаться и передавать этот разговор Бэдфорду, вынужден будет просто поставить герцога перед фактом, что главной цели они уже не добьются.
Де Шартр с пониманием кивнул.
– Я хочу получить от вас гарантии, Кошон, в том, что моя откровенность не будет впоследствии использована во зло. А также в том, что моя доверчивость, – он выдержал многозначительную паузу, – в том случае, если вы сейчас такое слово дадите, – снова пауза, чтобы собеседник лучше усвоил, – не будет впоследствии обманута. Впрочем, ваше, известное всем здравомыслие, сводит этот договор к простой формальности, ведь так?
– Регент тоже потребует от меня гарантий, – пробормотал Кошон.