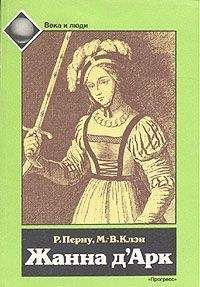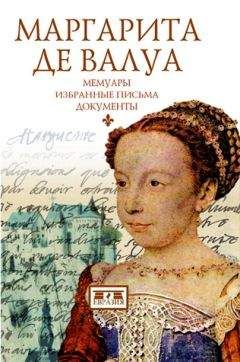– Регент тоже потребует от меня гарантий, – пробормотал Кошон.
– Конечно, – кивнул архиепископ. – И мы со своей стороны можем обещать, что Жанну не выкупят до тех пор, пока концепция будущего процесса не будет вами окончательно определена. А дальше – по обстоятельствам.
Кошон уныло развёл руками. Ответить отказом он не мог, и это было ясно им обоим. Но, Боже мой, как же всё осложнилось! Снова перекраивать процесс, который казался таким упоительно лёгким, триумфальным! Перекраивать, теперь уже с учётом того, что земли, захваченные этим, якобы королём, Шарлем придётся ему оставить. Правда, может быть, не все и не в полное владение… может быть, даже частично, как регентство… Хотя, нет. Это ИХ не устроит. Но, чтобы новоявленный королёк хотя бы не зарился на большее и смог сохранить во владении как можно меньше, его обязательно надо ограничить результатами суда о колдовстве, с помощью которого он получил свою шаткую корону! И сделать это тонко, чтобы английскому парламенту заметно было, а этому дьяволу архиепископу нет! И это самое сложное, поскольку обмануть его почти невозможно… Но, может быть, он сам пожелает обмануться, если минимально затрагивать на процессе, скажем, Реймс и всю Шампань?
– Однако, не забывайте, – снова привлёк внимание Кошона де Шартр, – долгое решение проблемы чревато появлением проблем новых. Недовольства среди горожан, волнения в деревнях… Мы же не можем прямо сейчас, активно, внушать своим прихожанам, что Дева Франции еретичка! Да и мне, сказать по правде, совсем не хочется в один прекрасный день бежать с насиженного места, бросив всё, что дорого моей душе и памяти. Уж в чём, в чём, а в этом вы должны меня понять.
Кошон натянутой улыбкой скрыл раздражение. Да, пора заканчивать разговор, чтобы лишить архиепископа радости постоянно напоминать о Бове. Тем более, что всё важное уже сказано.
– Я напишу вашей светлости, – сказал он, поднимаясь.
И не удержался – посетовал:
– Как всё таки тяжелы нынешние времена. Служители Церкви зависят от дел мирских едва ли не больше самих мирян.
– Да, да, – закивал де Шартр, тоже понимаясь. – Но эта зависимость учит нас смирению, что важно, и заставляет делить с другими ответственность, от которой ждали слишком многих, как раз-таки мирских благ.
Он приветливо улыбнулся епископу и протянул ему руку.
– Я счастлив, что поучился мудрости у вашей светлости, – не слишком старательно пряча сарказм в голосе сказал Кошон.
Припал губами к драгоценному архиепископскому перстню, а потом удалился со всей возможной величавостью, на которую только был способен. Ему не составляло труда представить, как де Шартр смотрит вслед и улыбается.
(июнь 1430 года)Сомнения в собственной правоте, особенно для человека, который и мысли не допускал, что может быть неправ, вещь неудобная и малопонятная. Для Филиппа Бургундского они стали примерно тем же, чем для человека, лежащего себе спокойно в постели стало бы присутствие рядом, на подушке, какой-нибудь мерзкой твари. И лежать спокойно уже не получается, и совершенно непонятно, каким образом смогла эта тварь сюда проникнуть!
Нет, можно было бы, конечно, ответить на письмо парижского инквизитора, назначить сумму и продать обеих девиц, как и было договорено – и всё! И какой-нибудь Люксембургский бастард так бы и поступил. Но Филипп Бургундский – это Филипп Бургундский! Никакая договорённость не является для него цепями, потому что всякая сделка – прежде всего преследование собственной выгоды. Сейчас ему выгоднее держать Жанну в плену, присматриваясь, с одной стороны, к Бэдфорду, с другой – к Шарлю. И, хотя последний помалкивал, Филипп не слишком ломал голову, гадая «почему?». На месте французского короля он, может, и сам поступил бы так же. Но он и не французский король! Он – герцог Бургундский, в руках которого игла тех весов, где взвешиваются интересы двух королевств. И сейчас только он решает, кому отдать преимущество. И отдавать ли вообще?
И тут эта вторая девица спутала ему все мысли! Будь Жанна одна, он бы знал, что делать. Выждал бы, пока обе стороны чётко определят свои позиции, и продал бы её тому, кто для Бургундии предоставлял больше выгод, пусть даже и в обход интересов Шарля. Мало ли что там ещё преподнесёт герцогиня Анжуйская. Вдруг, через её посредничество, хорошую сумму за Жанну предложит Карл Лотарингский? Или Рим, что тоже возможно, если они там решат как-то по-своему использовать необычную славу этой девицы. Бургундии добрые отношения с папой тоже не повредят и от Бэдфорда прикроют.
Но, вот уже несколько дней, с тех пор, как герцог вернулся в свой лагерь под Компьеном, он не может отделаться от странного ощущения, что надо всей политикой, надо всеми государственными выгодами, словно высокое небо, раскинулось что-то более высокое! Что-то о чём до сих пор он думал куда более заземлённо. Если думал вообще…
Вера давно уже представлялась герцогу этаким умывальником для души. Не осознанно, разумеется. Пожалуй, даже, такое представление залегало в нём где-то очень глубоко, упрятанное под воспитанием и многовековым восприятием религии, как некоей догмы. Потребовалось почиститься – покаялся, помолился, и вот уже снова легко, никаких сомнений – душа омыта. С другой стороны – более понятной и материальной, вера была частью той же политики, средством эксплуатации и спекуляции. Детские страхи перед геенной огненной давно уступили место трезвому пониманию того, как гибко трактуются любые церковные постулаты если власть и сила земных правителей того требуют. К тому же, всегда ведь можно покаяться…
Но Филипп не мог припомнить случая, когда бы душа его требовала покаяния. Он твёрдо стоял на земле и жил по земным законам. Поэтому и Жанну с лёгкой совестью продал бы, потому что девице, в худшем случае, угрожало бы почётное заточение в каком-нибудь замке или монастыре, из-за чего у Филиппа душа не заныла бы ни на мгновение. Он бы и вторую продал, окажись они никем и ничем! Но… Эта безродная девица, которую, неизвестно зачем, держали возле Жанны, непонятно как, ухитрилась именно в нужный момент, самыми обычными словами попасть в ту уязвимую, и, как раз в тот момент, незащищённую ничем точку в душе герцога, от которой, как трещины по стеклу, поползли сомнения. Это она заставляла сейчас чувствовать над собой бездонное небо, где таилось нечто, куда более высокое, чем все расчёты и вся политика! Нечто грозное и, в то же время, доброе, что он боялся пока назвать простым именем «Бог», но уже понимал, что не может – и вряд ли когда-нибудь сможет – отделаться от его понимания, как и от странного нового чувства, родившегося в нём… Понять природу этого чувства пока не удавалось, но Филиппу оно совсем не нравилось. Оно тревожило, угнетало и требовало разъяснения, которое герцог твёрдо решил получить, потому что всё понятое уже побеждено!
Побыв недолго в лагере под Компьеном, где в его руководстве никто особенно не нуждался, Филипп снова уехал в Нуайон, где сначала отобедал, потом вяло и рассеянно поохотился со своим соколом, потом отказался от ужина и, просидев в задумчивости и одиночестве около часа, велел, наконец, привести к нему Клод.
Когда она вошла, солнце за окном клонилось к закату и видимая из комнаты часть небосвода окрасилась кровавым багрянцем. Клод запнулась на пороге, увидев это алое небо, но потом опустила глаза и прошла.
– Не любишь закат? – спросил герцог.
– Люблю, ваша светлость.
– Тогда, почему так посмотрела?
В ответ девица наклонила голову, набычилась и молчала с той крестьянской туповатостью, которая всегда бесила. Ни дать, ни взять, те рабы, которые при появлении герцога, вечно не знали, что сказать и, как себя вести. Филипп поморщился. Может, несколько дней назад ему просто показалась в ней эта некая особенность? И, может, это хорошо? И пусть… Можно будет отмахнуться ото всех сомнений – с совестью он как-нибудь договорится – и жить, как жил до сих пор, не изводя себя мыслями о том, что какая-то там крестьянка получила в этой жизни откровение, ему, всесильному герцогу недоступное! Вот она, пожалуйста – стоит, как немая! Теребит передник слишком большого для неё платья, ну точь в точь та кухарка, или молочница, которая ей это платье одолжила! С какой стати Господу одаривать вниманием такую? Взять бы сейчас и отослать её обратно!
Филиппу безумно хотелось поступить именно так. Он уже облизнул губы, и одного лёгкого выдоха было бы достаточно, чтобы с них сорвалось: «Уведите её прочь!». Но, вместо этого, герцог выдавил стражникам: «Убирайтесь», и сам отвернулся к окну, дожидаясь, когда в комнате не останется никого, кроме них с Клод.
– Я не хотела прогневить вас, сударь, – послышалось за спиной почти сразу после того, как стражники ушли.
– Тогда разговаривай со мной, а не молчи, – с раздражением сказал герцог.