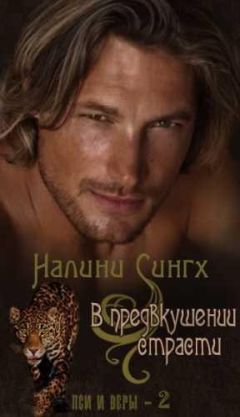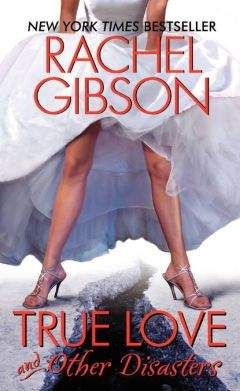Гостемилу очень хотелось, чтобы Ярослав нашелся и успел! Еще ему хотелось, чтобы приехал Хелье, вернулась Ширин, и они бы вместе сбежали в Корсунь. Или приняли бы участие в этой дурацкой драке народов, но хоть бы она начиналась скорей — ожидание томило, неизвестность угнетала, как неунимающаяся простуда.
Разбредались по спальням, снова собирались в занималовке.
Но настал день и час! Из башенки терема в полдень спустился ратник и объявил, что с северо-запада приближается к Киеву конный отряд.
Гостемил и Вышата кинулись в башенку. Вышата все больше раздражал Гостемила.
— Наши едут, — сказал Вышата, вглядываясь.
— Дурак, — Гостемил уже не сдерживался.
Он бросился вниз, в занималовку, из нее во двор, и стал быстро отдавать приказы. Несколько отрядов выехали из детинца и рассыпались по городу. Стали запирать ворота. Последнее — возможно, излишний жест, но война — действие примитивное. Врагу нужно было дать понять, что обманный маневр, каким и являлось это прибытие всадников, одетых в черное, без стяга, без рога, принят за чистую монету.
Конники приблизились к временным Золотым Воротам. Попрепиравшись со стражей, они дали нескольким из своих указания, и через четверть часа к воротам прибыл небольшой таран. Стража подняла луки, и стороны обменялись залпами.
А тем временем триста ладей, подгоняемые полуденным ветром, подошли к Подолу. Из них на берег, не встретив сопротивления, выскакивали по пять… по шесть… воинов. Судя по тому, что они ровно и быстро стали подниматься — по Боричеву и Пыльному Спускам, командующие ими с планировкой города были знакомы, по крайней мере поверхностно.
Слегка настороженные безлюдьем и отсутствием сопротивления, воины в черном по четверо, двумя колоннами, растянулись по склону. Когда последние выскочили из ладей, в середину обеих колонн одновременно с поперечных улиц ударили киевские конники. Они не ввязывались в бой, не останавливались — просто пересекли Спуски по двое, рубя все, до чего могли дотянуться — и скрылись в проулках напротив, потеряв несколько человек. Захватчики вытащили стрелы и стали озираться. Строй нарушился на какое-то время, но вскоре опять восстановился. Через некоторое время в другом месте еще один конный отряд атаковал колонну на Боричевом Спуске. На этот раз захватчики преследовали отряд, некоторые запутались в проулках, и многие там полегли от стрел, которые посыпались с крыш домов.
Тогда колонна ускорила шаг. Стрела с черным полотнищем взметнулась к небу, и колонна на Пыльном Спуске тоже перешла на почти-бег, и была атакована конниками. Никто не понимал, сколько конных отрядов скрывается в улицах, сколько в них воинов, надолго ли их хватит. Наскоки производились в полном молчании. Гостемил вычитал у римского вояки, что молчание пугает гораздо больше, чем воинственные крики, и объяснил это воинам. На самом деле его просто раздражала мысль о том, что воины под его командованием будут кричать военные глупости.
И все же войско захватчиков было слишком велико, и никакие наскоки не могли его остановить. В ратников на стене детинца полетели горящие стрелы.
В занималовке произошел скандал. Элисабет рыдала и громко упрекала свою мать в пренебрежении, легкомыслии, дурости, стервозности, и еще во многом. Анька-перс кричала на нее, чтобы она заткнулась, но Элисабет не затыкалась, а уверяла всех слезно, что теперь им всем хвитец настанет. Ингегерд положила Библию на ховлебенк, поднялась, подошла к Элисабет и с размаху залепила ей по уху. Шокированная таким обращением с собой, Элисабет отступила на шаг, а Анька-перс, воспользовавшись моментом и выказывая солидарность с матерью, с хвоеволием на лице врезала сестре ногой по крупному арселю.
— Все, идем, — сказала Ингегерд.
— Порядок, — сказала Анька.
— Куда? Куда? — заныла плачущая Элисабет.
— Куда нам велено. В Десятинную.
— Зачем, зачем? Там стреляют!
— Очень много дерева здесь, — объяснила Ингегерд спокойным голосом. — А дерево хорошо горит. Десятинная — вся из камня. Возьми себя в руки, сволочь. Твой брат рискует жизнью, сражаясь с врагами.
— Погибнем все!.. — крикнула Элисабет.
— Я тебе, когда спать будешь, волосы срежу, — пообещала ей Анька-перс. — И сиськи твои жирные оторву.
— Идем, — повторила Ингегерд и, прихватив Библию, направилась к выходу.
Ей было странно и тревожно смотреть, как Анька тащит — за волосы и за рукав — упирающуюся Элисабет. Анька — тощая, но сильная. Элисабет — корова. Какие у меня разные дети все, подумала княгиня. И как их всех жалко.
Весь отряд Гостемила состоял из тридцати человек. Остальные, в распоряжении Владимира и Вышаты, расположились в палисадниках на улицах, примыкающих к детинцу. Гостемил и его подчиненные — дети купцов и писцов, смерды, несколько ратников — прятались за строем повозок у самых ворот детинца. Пробные стрелы захватчиков свистели над головами, некоторые врезались в стену, иные падали во двор. И вот появились первые воины в черном. Боричев Спуск в этом месте был в то время узок, и к стене детинца нельзя было подобраться цепью, а только колонной. Гостемил выжидал.
У ратников на стене возле ворот не выдержали нервы — в неприятеля полетели стрелы. Неприятель тут же отреагировал шквалом стрел, некоторые из них горели.
Гостемил ждал.
Все больше и больше воинов в черном.
Он ждал, перебирая в уме разные пошлые кличи, коими следует подбадривать воинов, воззвания былых времен. «Ребята! За нашими спинами наши жены, матери, и дети!» Во-первых, не за спинами, а сбоку. Во-вторых, дети в Киеве остались только беспризорные, посему никакие они не «наши». Жены и матери по большей части тоже уехали. «За край родной!» В Киеве коренного населения едва ли восьмая часть, большинство приезжие. «За Веру!» На Руси в то время эта экзотика — война за Веру — еще не привилась. «За князя нашего!» Но князя тоже нет в городе, если не считать князем маленького Владимира, к которому киевляне относятся презрительно. Любимое некогда Крестителем «Кости брошены!» никто не поймет, даже если по-славянски произнести. Да и вообще — прав римский вояка, и кричать в бою — глупость и легкомыслие. Гостемил решил просто дать сигнал.
Почувствовав, что подходящий момент вот-вот настанет, Гостемил оглянулся — вправо, влево, и вытащил сверд. Давать сигнал свердом показалось ему делом неэлегантным. Он переложил сверд в левую руку, поднял правую, и помахал кистью. То, что это — сигнал, поняли не сразу. А когда поняли, тогда и наступил — самый подходящий момент. Ополченческий отряд с криками, которые так не нравились Гостемилу, выскочил из-за повозок и навалился на воинов в черном — с топорами, с вилами, с редким тут и там свердом, а кто и просто с дубинами. Началась свалка. Снег смешивался с кровью и грязью.
Черные воины наверняка бы перегруппировались и одолели защитников в короткий срок — но их отвлекли странные посвисты, доносящиеся с разных сторон, будто целые полчища киевлян посылали друг другу сигналы, координируясь, а затем последовал очередной наскок конников. Часть черных отступила обратно на Спуск, оставшихся окружили. Поняв, что выхода нет, фатимиды, взвинченные страхом и яростью, стали рубить, бить, и колоть как попало. Гостемил, оказавшийся вопреки своим желаниям в самой гуще, оберегал себя и тех, кто был с ним рядом, как мог, выстраивая «круговую оборону в одиночку», по принципу Хелье. Мелькала сталь, хлестала кровь, местность огласилась хриплыми нечленораздельными криками.
Главное было — не дать врагу увидеть действительную, незавидную численность защитников. И, кажется, цель достигнута. Часть колонны захватчиков рассыпалась в улицы и палисадники, там с ними тоже дрались — другие ополченческие отряды. Остальные части отступили вниз и стали жаться к стенам домов, повалив заборы. Наступила короткая, нервная передышка. Похватав с поля боя оружие, оставшиеся в живых воины Гостемила отступили в густые еловые заросли с юго-западной стороны детинца, которые захватчики пока что не догадались зажечь просмоленными стрелами.
Повалил мокрый снег.
Ратник, стоящий у тайного лаза на дворовой стороне стены детинца, и готовый по сигналу лаз этот завалить приготовленной грудой камней, пропустил по одному — сперва Владимира, затем Вышату, и, наконец, Гостемила. Владимира зацепили свердом — плечо кровоточило, он ругался и ныл.
— Все в церкви? — спросил Гостемил у ратника.
— Все, болярин.
— Илларион им там проповеди читает?
Ратник не ответил, а только посмотрел на колокольню. Гостемил поднял голову.
Очевидно сверяясь с ведомым только ему лично отсчетом времени, поскольку солнце закрыто было тучами и снежной пеленой, скандальный священник ударил в колокол. А, понял Гостемил, время молитвы — значит, надо звонить. Замечательный человек Илларион. Перекрестившись на колокольню, он спросил: