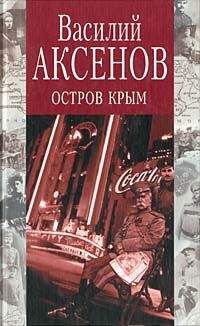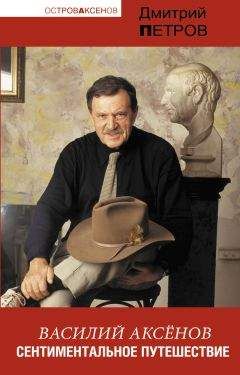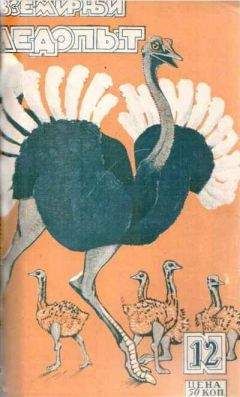Интонация у тебя, Андрей, совсем не наша. Знаем, знаем, что ты патриот, и твою Идею Общей Судьбы уважаем, грехи твои перед Родиной забыты, ты — наш, Андрей, мы тебе доверяем, но вот фразу «нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлетворения» тебе не одолеть. Так обычно мирно глумился над Лучниковым новый его друг — не-разлей-вода, умнейший и хитрейший Марлен Кузенков, шишка из международного отдела ЦК.
Значит, нечто общее есть и в Москве и в Симферополе? Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты, цепляние за устаревшие формы: все эти одряхлевшие «всероссийские учреждения» в Крыму, куда и мухи уже не залетают, и элитарное неприсоединение к гражданам страны, которой мы сами же и управляем, — это словечко «вр. эвакуант» и московское непризнание русских на Острове, и все их бюллетени и почему-то Первая Конная Армия, когда ни слова о Второй, и почему-то в юбилейных телефильмах об истории страны ни Троцкого, ни Бухарина, ни Хрущева — куда же канул-то совсем недавненький Никита Сергеевич, кто же Гагарина-то встречал? — да все эти московские фокусы с упоминаниями и не перечислишь, но… но раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некоторых чертах национального характера-с? Характерец-то, характеришка-то у нас особенный. Не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «сор из избы не выносить»? Кельты, норманны, саксы, галлы — вся эта свора избы, небось, свои очищала, вытряхивала сор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную цель — чтоб соседи не видели. Ну, а если все эти гадости из национального характера идут, значит, все оправданно, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин «говном» себя не назовет.
Придя в конце концов после довольно продолжительных размышлений к этому несколько вонючему выводу. Андрей Арсениевич Лучников обнаружил себя несущимся в своей рявкающей машине по серпантину, который переходил сразу в главную улицу Коктебеля, заставленную многоэтажными отелями. Обнаружив себя здесь, он как бы вспомнил свои предшествующие движения: вот вышел, размахивая пачкой «тичей», из Гостевой башни, вот энергично двигался по галерее, вот чуть притормозил, увидев на парапете неподвижный контур Кристины, вот прошел мимо, вот засвистал что-то демонстративно старомодное, «Сентиментальное путешествие», вот чуть притормозил, увидев в освещенном окне библиотеки молчаливо стоящую фигуру отца, вот прошел мимо во двор и перепрыгнул, словно молодой, через бортик «питера», услышал призывный возглас Фредди: дескать, возьми с собой — и тут же включил зажигание.
Сейчас, обнаружив себя среди ночи подъезжающим к злачным местам своей юности и вспомнив вес свое сегодняшнее поведение. Андрей Арсениевич так изумился, что резко затормозил. Что происходит сегодня с ним? Он обернулся. Зеленое небо в проеме улицы, серп луны над контуром Сюрю-Кая, В боковой улочке, уходящей к морю, медленно вращается светящийся овал найт-клаба «Калипсо». Пронзительный приступ молодости. Ветер, прилетевший из Библейской Долины, согнул на миг верхушки кипарисов, вспенил и посеребрил листву платана, взбудоражил и закрутил Лучникова. Что обострило сегодня все мои чувства — появившаяся опасность, угроза? Совершенно забытое появилось вновь — простор и обещания коктебельской ночи.
У входа в «Калипсо» стояло десятка полтора машин. Несколько стройных парней-яки пританцовывали на асфальте в меняющемся свете овала. Вход — 15 тичей. За двадцать лет, что Лучников здесь не был, заведение стало фешенебельным. Когда-то здесь в гардеробной висела большая картина, которую лучниковская компания называла «художественной». На ней была изображена нимфа Калипсо с большущими грудями и татарскими косами, которая с тоской провожала уплывающего в пенных волнах татарина Одиссея. Теперь в той же комнате по стенам вился изысканнейший трех-, а может быть, и четырехсмысленный рельеф, изображающий приключения малого, как сперматозоид, Одиссея в лоне гигантской, разваленной на десятки соблазнительных кусков Калипсо. Все это было подсвечено, все как бы дышало и трепетало, двигались кинетические части рельефа. Лучников подумал, что не обошлось в этом деле без новых эмигрантов. Уж не Нусберг ли намудрил?
Едва он вошел в зал и направился к стойке, как тут же услышал за спиной чрезвычайно громкие голоса.
— Смотрите, господа, редактор «Курьера»!
— Андрей Лучников собственной персоной!
— Что бы это значило — Лучников в «Калипсо»?
Говорили по-русски и явно для того, чтобы он обернулся. Он не обернулся. Присев к стойке, он заказал «Манхаттен» и попросил бармена сразу после идиотской песенки «Город Запорожье» (Должно быть. не меньше десяти раз уже крутили за сегодняшний вечер? не менее ста, сэр, у меня уже мозжечок расплавился, сэр, от этого «Запорожья»), так вот сразу после этого включите, пожалуйста, музыку моей юности «Sеrеnаdе in Вlue» Глена Миллера. С восторгом, сэр, ведь это и моя юность тоже, не сомневался в этом. Мне кажется, сэр, я вас уже встречал. Еще сомневаетесь? не исключено, что вы из Евпатории, сэр. Кажется, там у вас отель. Смешно, Фаддеич… Как вы меня?.. Смешно, говорю, Фаддeич, прошло двадцать лет, я стал знаменитым человеком, а ты так и остался занюханным буфетчиком, но вот я тебя прекрасно узнаю, а ты меня, рех жоржовый, нe узнаешь. Андрюша! Фуюша! Не надо сквернословить! Ну, а обняться-то можно, а? Слегка всплакнуть? Слышишь серебряные трубы — Глен Миллер бэнд!.. Голубая серенада, 1950 год, первые походы в «Калипсо»… первые поцелуи… первые девушки… драки с американскими летчиками…
Хлопая по спине и по скуле Фаддеича, слушая свинговые обвалы Миллера, Лучников вдруг осознал, что привело его в эту странную ночь именно сюда — в «Калипсо». В юности здесь всегда была пленительная атмосфера опасности. Неподалеку за Мысом Хамелеон находилась американская авиабаза и летчики никогда не упускали возможности подраться с русскими ребятами. Быть может, и сегодня, неожиданно помолодев от ощущения опасности, от словца «покушение», Лучников почувствовал желание бросить вызов судьбе, а где же бросить вызов судьбе, как не в «Калипсо».
Признаться в этом даже самому себе было стыдно. Все здесь переменилось за два десятилетия. Клуб стал респектабельным, дорогим местом вполне благопристойных развлечений верхушки среднего класса, секс перестал быть головокружительным приключением, а летчики, постарев, демонтировали базу и давно уже отбыли в свои Милуоки.
Остался старый Фаддеич и даже вспомнил меня, это приятно. Сейчас допью «Манхаттен» и уеду домой в Симфи и завтра в газету, а через три дня самолет — Дакар, Нью-Йорк, Париж, конференция против апартеида, сессия Генеральной Ассамблеи, встреча редакторов ведущих газет мира по проблеме «Спорт и политика» и, наконец, Москва.