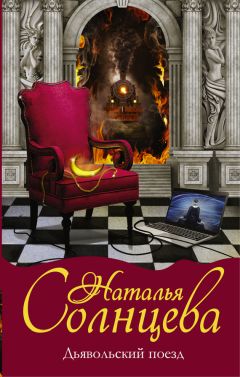городского Дома Культуры. В памяти отложились три места, рядом с которыми можно не держаться за деда. Это большой мебельный магазин, киоск «Филателия», павильон «Мёд-Молоко». Такой же, как тот, в котором сейчас продают мясо.
Мы с дедом добредали туда раза четыре, в поисках диафильмов для фильмоскопа. (Веники он продавал в другой стороне, в прямой досягаемости к «Чебуречной», где к столу подавали пиво и водочку на розлив). Случалось и так, что не добредали. А если и добредали, то с третьей-четвёртой попытки. На каждом шагу надо было с кем-нибудь поздороваться, обстоятельно побеседовать, или ещё хуже —возвращаться назад к «Чебуречной».
Бывало и так, что нам приходилось бросать все дела, садиться на велосипед и возвращаться домой в сопровождении сослуживца, однополчанина, или «соседа по…» (в половине окрестных колхозов дед когда-то был председателем).
От редакции до базара всего ничего. Минута неспешным шагом до поворота направо, и столько же вдоль СПТУ № 1, звавшегося в народе «кагаятней» или «кагайкой». Это не в знак презрения, а для ясности. Когда заведение часто меняет название, к нему прилипает одно — общее. Скажешь «кагайка» — координаты ясны! Начнёшь объяснять по-научному, человека запутаешь. Там переименований одних больше чем у царя титулов: от «Тракторуча» до социального техникума.
В 1943-м, когда немцев прогнали, здесь уже было ремесленное училище № 6. Возглавил его капитан запаса Василий Дмитриевич Киричек. Комиссовали мужика по ранению и сразу на должность: учить, восстанавливать, строить. Не сказать, чтобы всё там лежало в руинах, но крепко кагайке досталось. В трехэажке, что фасадом выходит на Красную, не было ни крыши, ни перекрытий.
Ютился директор вместе с семьёй в комнатухе с уцелевшими окнами. Возможно, именно в той, с балконом, о котором упомянул Кириллович. Там где-то и провёл первые годы сознательной жизни мой будущий друг и собрат по перу. А я ещё недоумевал, откуда он знает до мелочей историю центра города, если живёт возле восьмой школы? Кто лучше Александра Васильевича Киричека расскажет о старом здании ЗАГСа с крутой деревянной лестницей, что ведёт в «зал бракосочетаний», старом ресторане «Лаба», том же колхозном рынке? И не так просто расскажет, а в стихах, где между правдой и рифмой всегда выбирается правда. С упоминанием таких мелочей, которым может запомнить и оценить лишь босоногое послевоенное детство.
Базар, по-нынешнему рынок,
Послевоенный, озорной,
Ломился от крестьянских крынок
С молочной пенкой золотой.
Мычали дойные коровы,
Нуждой впряжёные в арбу,
Торгуясь, спорили сурово
За трёхкопеечный арбуз.
Народ, израненный и дерзкий,
В торговле был большой мастак,
И цену знал себе советский,
Державный, погнутый пятак.
И если кто-то драл «три шкуры»,
Кричали бабы: «Спекулянт!»
А нынче эта же фигура —
«Предприниматель», «коммерсант».
Ряды безногих инвалидов
Дымили крепким табаком.
Ни горя в лицах, ни обиды,
А только шум из кабаков.
Гуляли дружно плотогоны —
Лабинский загорелый флот.
В линялой форме участковый
Один на весь торговый фронт.
Базар, как праздник в день воскресный,
Осенний щедрый огород,
Великий сход станиц окрестных,
Неунывающий народ.
Народ, от пашни и от плуга
На изувеченной земле,
Держался крепко друг за друга:
Так, вместе, было веселей,
И жизнь казалась интересней.
Хоть и трудились «задарма»,
Но в поле возникала песня
И расходилась по дворам.
Моя колхозная станица,
Без коленвала, без тягла,
Как ты сумела возродиться?
Как только выдюжить смогла⁈
Что от себя добавить? — Не было торговых рядов в нынешнем понимании слова. У колхозов имелись свои павильоны. Остальные продавали кто как: с конных подвод, тракторных прицепов, кузовов машин, расстеленных по земле дерюг, «которых не жалко». То есть, пришёл человек, уронил на землю велосипед, разложил на колёсах товар, приткнул скамеечку, сел. Слева ещё один, справа другой. И так до тех пор, пока не заполнится ряд. Инвалиды те да, обособлено кучковались. У безногих своя специфика, взаимопомощь, понятный лишь им, внутренний мир. Те же, кто на ходу, инвалидами вообще не считались. Хоть и с одной рукой, но какой он к чертям инвалид, если смог убежать от милиции? Медалей и орденов никто на груди не носил. Только по праздникам и строго не здесь.
Ко дню сегодняшнему, ещё кое-что поменялось. Участковых переодели в нарядную новую форму, посадили на мотоциклы. На рынке теперь дежурил отряд добровольной народной дружины. А самое главное, появились цветы. Не искусственные поделки, что лепят бабушки на коленках для похорон и поминок, а натуральные, которые в наших краях отродясь не росли. Те, из разряда хороших. Прошёлся я вдоль жидкого ряда, узнал цену. Гвоздики по 40 копеек за штуку, а розы по 90. Но мамке с Зинаидой Петровной почему-то продавали дороже: по полтиннику и рублю. Только хотел я подать голос в защиту семейных ценностей, свои же и обломали: иди, мол, не детское это дело.
Из-за ворот тот самый балкон смотрелся нефункционально. Для семейного отдыха маловат, да и как на нём отдыхать у общества на виду? Он висел над торговой площадью не низко, не высоко. Будто его с постройки делали трибуной для выступлений. И надо сказать, мастера постарались. Боковухи не кованые, а литые, крепления на болтах, низ из листового железа. Это фамильный архитектурный почерк семьи Сеферовых — одного из влиятельных кланов на юге дореволюционной России.
* * *
Под знаменитым балконом подруги остановились. Я думал, его будут рассматривать. Нет, стали оглядываться, рыскать глазами по сторонам. Меня ищут: надо ж кому-то букеты нести?
Ну, думаю, попал! Сейчас призовут, загрузят мне в зубы охапку цветов, и буду я, как собачка на поводке, семенить следом. Увидят знакомые пацаны, засмеют.
Хочешь, не хочешь, надо! Выглянул я из гущи народных масс, нехотя подошёл. Тут Зинаида Петровна на меня и наехала. Почему, мол, в школьной газете она не читала моих стихов? И ну, подбивать под этот вопрос