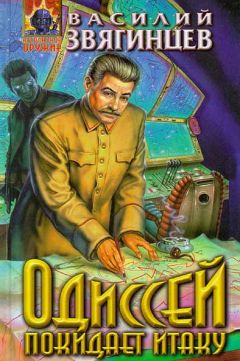Троцкий отодвинул телеграмму и переключился на сиюминутные дела.
Ленин торопливо и невнятно бубнил с трибуны о назревшей необходимости «хорошенько перетряхнуть ЦК РКП», «бороться с идейным разбродом и с нездоровыми элементами в партии, которые погубят партию скорее и вернее, чем капиталисты Антанты, эсеры и белогвардейцы», что текущий момент «требует от всех больше дисциплины, больше выдержки, больше твердости. Если мы выкинем из ЦК и из партии несколько сот или несколько тысяч полностью разложившихся «товарищей», партия не только не ослабнет, она окрепнет…».
Зал ничего не понимал, в президиуме началось шевеление и нечто вроде ропота. Особенно засуетились члены Политбюро и Секретариата. Ничего подобного они не ожидали, не обсуждали и не санкционировали. Да вдобавок, осмотревшись, каждый из них наконец заметил, что ряды бархатных кресел зияют слишком уж заметными проплешинами и маловато среди делегатов знакомых лиц.
Ленин же словно ничего не замечал. Увлекшись собственным красноречием и омываемый накатывающимися из партера и амфитеатра волнами разнонаправленных эмоций (возможно, он был от рождения энергетическим вампиром?), Предсовнаркома безостановочно перемещался по просцениуму, то засовывая руки в карманы брюк, то зацепляя пальцы за вырезы черного жилета. Его, что называется, несло.
Непонятно как (у него это получалось здорово), Ильич сменил пластинку, и делегаты вдруг сообразили, что говорит он совершенно о другом. О необходимости мирной передышки в стране, которая совершенно истощена и измучена непрерывной шестилетней войной, о тяжелейшем положении с продовольствием и топливом, о хозяйственной разрухе, крестьянских бунтах, моральной деградации пролетариата, который оказался совершенно не готов к своей исторической миссии, и даже вообще не пролетариат, а черт знает что. А также и о еще более неприятных вещах в государственной и внутрипартийной жизни. Выходило так, что вроде и успехи накануне трехлетия Октября неоспоримы, и в то же время РСФСР стоит на пороге неминуемой катастрофы. В этом Ленин обвинял сразу всех — Антанту, белогвардейцев, пронизанных мелкобуржуазным духом крестьян, рабочих, забывших о классовых интересах, пробравшихся в партию классовых врагов и оппортунистов, впавших в комчванство руководителей, бездарных красных полководцев и деморализованных красноармейцев.
Звучали убийственные характеристики членам ЦК и Политбюро, очень похожие по смыслу и духу на те, что он изобразил в своем предсмертном «Письме к съезду».
И сидящим в зале становилось даже непонятно, кто они здесь есть — делегаты высшего органа большевистской партии или сидящая на скамье подсудимых банда преступников и мародеров.
Впечатление усиливали стоящие у всех входов и выходов, на ярусах и в ложах вооруженные винтовками и револьверами красноармейцы в щеголеватой новенькой форме (изготовленной по эскизам Васнецова для царских гвардейских полков), в надраенных по-старорежимному хромовых сапогах. Даже в ватерклозет делегатам можно было пройти только сквозь строй расставленных через каждые десять метров часовых, следящих напряженными тяжелыми взглядами за каждым их движением. О том, чтобы подойти к телефону или, упаси бог, свернуть с предписанного маршрута в один из многочисленных полутемных коридоров, не могло быть и речи.
Мотивировалось все это необходимостью предотвращения терактов и провокаций. После злодейского убийства Дзержинского и разоблачения свившего змеиное гнездо в самом сердце партии клубка скорпионов и ехидн такое объяснение казалось правдоподобным.
Дождавшись окончания ленинской речи, Троцкий, не теряя темпа, вскочил и, перемежая свою речь посулами и угрозами, начал один за другим ставить на голосование «организационные вопросы», умело пресекая попытки возразить с места или взять слово «к порядку ведения».
Через час все было кончено. Замороченный ленинской речью и агрессивным красноречием Троцкого съезд открытым голосованием принял все резолюции по кадровым перестановкам в ЦК и Политбюро. Теперь можно было разрешить и прения…
После второго перерыва из-за кулис прошмыгнул на сцену адъютант и положил перед Троцким четвертушку бумаги.
«Прошу тов. Ленина и Троцкого немедленно приехать в Кремль по делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Менжинский».
— Что это значит? Разве Менжинский не на съезде? — удивился Ленин, которому Троцкий передвинул по красному сукну странную записку.
— Был на съезде. Очевидно, вызвали. Так едем?
— А по телефону нельзя узнать? — недовольно пожевал губами Владимир Ильич. Оставлять без присмотра постепенно опомнившихся и начавших задавать неудобные вопросы делегатов ему очень не хотелось. Мало ли что они тут нарешают. Он не забыл Седьмой съезд, где ему едва-едва удалось протащить резолюцию о заключении Брестского мира.
Троцкий вышел позвонить. Вернулся встревоженный.
— Надо ехать, Владимир Ильич. Прямо сейчас. А съезд пусть Фрунзе ведет. Я ему скажу, чтобы переключился на чисто военные вопросы и немедленно лишал слова, если начнут болтать лишнее, пока мы не вернемся. Не думаю, что надолго отлучаемся…
Ленин подозрительно наморщил лоб. Фрунзе он тоже вдруг перестал доверять. Сказали ему «доброжелатели», что Арсений накануне всю ночь просидел в номере у Зиновьева, пил с ним и о чем-то, несомненно, сговаривался. Кругом разврат и измена…
— Все равно не нравится мне это. Как будто Вячеслав сам сюда не мог приехать…
— Не мог, Владимир Ильич. Нам к прямому проводу нужно, а в театре его установить не догадались. На фронте обстановка осложнилась до крайности…
В Кремле их вместо Менжинского встретил Агранов. И повел по длинным коридорам, односложно отвечая на встревоженные вопросы Ильича. На всех лестницах и поворотах стояли вооруженные чекисты с сумрачными лицами. Это несколько успокоило Ленина, любившего, чтобы места его пребывания охранялись как можно надежнее, вроде как Смольный в семнадцатом году, однако заставило насторожиться Троцкого, предпочитавшего видеть возле себя преданных лично ему китайцев или мадьяр. Но все они остались в театре, за исключением конвоя из шести человек.
В коридоре, ведущем к кабинету Ленина, Троцкий спохватился:
— Куда вы нас ведете? Телеграф на втором этаже…
— Вячеслав Рудольфович ждет там, в приемной.
Агранов распахнул дверь кабинета, пропуская вождей вперед, и сразу же ее захлопнул, отсекая адъютантов и охрану Троцкого.
Тут же, возникнув словно бы ниоткуда, опешившую свиту окружили люди настолько решительного и угрожающего вида, что никому даже в голову не пришло хвататься за оружие. Покорно подняв руки, охранники Наркомвоенмора позволили обхлопать себя по карманам и извлечь из их кобур парабеллумы и маузеры. Так же покорно они побрели в жестко (тычками прикладов) указанном им направлении. Профессиональное чутье подсказало им, что с подобными «специалистами» не то чтобы драться, а и спорить смертельно опасно.