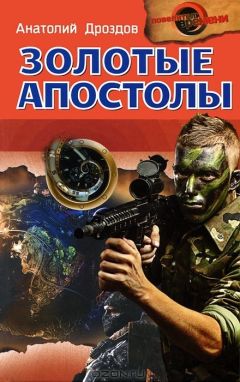– Пойдем!
Дуня за руку вывела меня во двор и отвела в стоявшую посреди сада рубленую баню. Там она сняла с гвоздя на стене длинный тулуп и расстелила на широком полке.
– Ложись!
Я послушно прилег на мягкую овечью шкуру. Сквозь единственное, крохотное окошко бани внутрь вливался тусклый свет пасмурного дня. Дуня стащила с меня туфли и пошла к двери. Спросонок я услышал, как лязгают запоры, и хотел возмутиться: не надо меня запирать! Но сил на это уже не оставалось. Вдруг я услышал, как по деревянному полу прошлепали босые ноги, кто-то маленький и легкий прилег рядом и прикрыл меня широкой полой тулупа.
– Спи, Акимушка, спи… Настрадался, бедный…
Маленькая твердая ладошка ласково погладила меня по щеке. Слезинка выкатилась из-под моего закрытого века и пробежала по щеке. И это было последнее, что я ощутил наяву…
– Падъязжаем, паночку!
Молодой мужик в телеге нагло смотрел на меня и скалил зубы. Степан, сын местного дьячка. Когда староста выводил меня из дома, он стоял у телеги, также скалясь. И дорогой постоянно ухмылялся. Чему ты рад, образина? Дать бы сейчас ногой по роже, чтоб покатился прямо на дорогу – лаптями кверху! Нельзя… Их двое. Не посмотрят, что в телеге господин студент Императорского Санкт-Петербургского университета (историко-филологический факультет, славяно-русское отделение) с официальным предписанием местным властям оказывать всяческое содействие. Возьмут палки и намнут бока прямо тут, посреди дороги.
Я повернулся. Могучая спина возницы маячила впереди, закрывая дорогу. С этим вообще лучше не связываться. Я видел, как на Духов день, подвыпив, он на спор носил на спине лошадь. Медведь. Заломает – и все. Соскочить – и в лес? Догонят. Да и поздно. Раньше надо было…
Лес вдоль дороги кончился, мимо потянулись заросшие жесткой отавой пойменные луга. Скоро переедем мост – и станция. Кончилась этнографическая экспедиция…
– По вашему делу лучше в Прилеповку, – сказал мне месяц назад исправник, когда я предъявил ему предписание, – там у нас глушь и тьма египетская. (Исправнику перед столичным гостем хотелось выглядеть образованным человеком.) Только зачем вам это: колдуны, суеверия? Неужели в столице этим интересуются? Странно… Двадцатый век на пороге!
Мне пришлось терпеливо объяснять ему, что такое этнография. А после долго отбиваться от любезного предложения лично отвести в Прилеповку. Кто из крестьян будет откровенничать с человеком, которого привез исправник?
– Я все-таки дам вам записку старосте, – заключил наш разговор исправник. – Он-то хитрая бестия, – это слово он произнес с особым удовольствием, демонстрируя ученость, – но меня боится. Пусть только попробует не помочь!
Староста Прилеповки, куда я добрался к вечеру на обывательских лошадях, действительно оказался хитроватым, тертым мужичком и долго изображал из себя темного и непонимающего.
– Вы, паночку, часом не сицилист? – спросил он, наконец, когда я уже начал терять терпение. – Сицилистам тут не можна. Исправник велел вязать и вести в волость.
Вместо ответа я сунул ему записку исправника и официальное предписание. Он долго читал по складам, затем облегченно вздохнул:
– Так бы и казали адразу, что по казенной справе. А то обычаи… Обычаев (он делал ударение на "ча") у нас тут воз и маленькая тележка. Бяды бы не было…
Он хотел поселить меня у попа, но я твердо настоял на крестьянской избе. Повздыхав, он отвел меня к вдове по фамилии Воробей. Муж ее погиб на отхожих промыслах, но, видимо, деньгами обеспечить успел: жила вдова не бедно. Дом ее, большой пятистенок с холодным прирубом, где я и поселился, стоял на высоком берегу реки. Вдова, кругленькая хлопотливая старушка лет пятидесяти, выдав дочек на сторону, жила одна и с удовольствием приютила студента. Мы быстро сдружились. Другие обитатели Прилеповки первые дни смотрели на меня косо, но после того как в воскресенье мы с хозяйкой сходили к обедне (в церкви я истово крестился и бил поклоны, не забыв перед этим облобызать почитаемые в деревне изображения святых) все успокоились. Ходит себе человек, разговаривает с дедами, про старое расспрашивает – ну и Бог с ним. Мало ли из волости скудных умом приезжает…
За неделю я наслушался сказок. Про то, как колдуны, если не оказать им должного почтения, превращают свадьбы в волчьи стаи, или "портят" молодых. Про то, как проходящий солдат победил самого черта, который гнался за ним до другой деревни и сумел даже съесть на ходу под солдатом лошадь. Про свинью-оборотня, которая высасывала молоко у коровы и оказалась на проверку балующейся ведьмовством тещей… Таких побасенок в этнографических отчетах, как сказал староста, воз с тележкой. Не за тем ехали…
К Прохору Пискижеву я наведался на второй неделе в Прилеповке. Меня встретил высокий старик с седой бородой и лохматой копной таких же седых волос на голове. Глаза – карие, блестящие, под густыми нависшими бровями. Взгляд у него был острый и пронизывающий. Без долгих разговоров я выставил на стол штоф водки и положил завернутый в тряпицу шмат сала.
– Занедужил? – поинтересовался он, жадно поглядывая на штоф.
– Голова… – соврал я, скорчив жалобную мину.
– Это мы можем, – важно сказал он, указывая на лавку. – Садитесь, господин, – он говорил не по-местному, – это мы мигом…
Он сходил в сени и вернулся с яйцом и кружкой воды в руках. Кружку поставил на стол, а яйцом стал медленно водить вокруг моей головы, тихо пришептывая. Как ни старался я прислушиваться, но уловил только: "Уходи, злая болесть, от раба божия Александра, не ломай его буйной головы, ярого тела, белой кости…" Пошептав, он разбил яйцо о край кружки, и вылил его в воду. Приглядевшись, сказал:
– Ну вот, теперь будешь здоров. Была на тебе черная немочь – лихой человек наслал, теперь ему самому худо будет. Не знал он, что к самому Пискижу придешь…
Я поблагодарил и взялся штоф. Он сходил за стаканами. Скоро старик захмелел и долго хвастался своей силой. Рассказы о его подвигах были перелицовкой описаний евангельских чудес и уже слышанных мной побасенок. Я зря терял время. Но, когда я встал с лавки, он схватил меня за руку:
– Помру я скоро, – жалобно сказал, пьяно всхлипнув, – а силу передать некому. Дети не хотят, другие сродственники – тоже. В Прилеповке тоже крутят – тут я чужой. Прими ты, добрый человек! А?
Смотреть на него было противно, и, чтобы отвязаться, я пообещал подумать. На прощание он дал мне мешочек с льняным семенем.
– Пойдешь от меня, бросай через плечо! – велел строго. – А то ребятки мои рассердились, что я тебя невредимым выпускаю, работы им не дал, набросятся по дороге и разорвут на части. Я им велю семя собирать, вот им и не до тебя станет. Как силу мою возьмешь, тебе служить будут. Вон они, по столу скачут! Кыш! Кыш! – заворчал он, смахивая нечто невидимое со стола и полы своего полукафтана. – Привязались. Будет, ужо, вам! Кыш!..