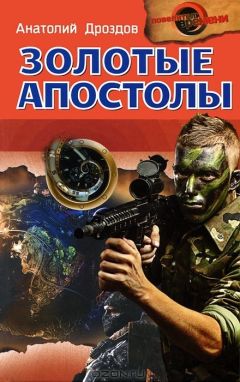Освящение архиерея обошлось мне в лишний рубль, но спорить я не стал – некогда было. Начинало темнеть, когда мы добрались до печально знакомой мне станции. Извозчик, высадив меня, заспешил обратно, погоняя лошадь ударами вожжей. А я, перекинув через плечо свою дорожную сумку, отправился к Прилеповке.
Когда я вступил в лес, совсем стемнело, и пыльная дорога была едва различима под сапогами. Но тут из-за облаков выскользнула луна, идти стало веселей. Луна была полная, ее огромный, бледный диск в полнеба висел над остроконечными верхушками елей. Тени от деревьев падали на дорогу, образуя неравномерное чередование темных и светлых участков: я то ступал в темноту, то выходил из нее. Было тихо: ни голоса ночных птиц, ни пение кузнечиков, ни даже шелест ветерка не нарушали ночной покой. Только мягкие звуки моих шагов одиноко звучали в этом мертвящем безмолвии.
Мне стало не по себе. Я присел на обочине, достал из сумки хлеб с колбасой и торопливо поужинал, запивая скудное кушанье из горлышка бутылки. Вино оказалось сладким, дамским, пить его было противно, но выбирать не приходилось. Стряхнув крошки на дорогу, я сунул наполовину опорожненную бутылку в сумку и двинулся дальше.
Идти стало веселей, насвистывая мотив из увертюры популярной в прошедшем сезоне оперы, я быстро преодолел расстояние до Прилеповки. С лесной опушки я не сразу разглядел ее: ни в одном из окон не горел свет, и избы издалека казались темными пятнами на залитом лунным светом лугу.
Не доходя до огромного деревянного креста, по местному обычаю установленного у въезда в деревню, я притаился в кустах. Ждать пришлось недолго. Вскоре издали послушалось протяжное, заунывное пение. "Пресвятая моя владычица Богородица, – выводили где-то за избами тонкие женские голоса, – спаси, сохрани и помилуй нас, грешных…"
Я почувствовал, как легкий озноб от ночной сырости пробежал по моему телу и достал из сумки бутылку. Я успел отхлебнуть пару глотков, как из-за большого, крытого соломой омшаника показалась процессия.
Три женщины в одних белых рубахах до земли и с распущенными волосами тащили за оглобли соху, четвертая держала ее за ручки. Следом за ними темной тучей валила толпа с какими-то палками в руках. Когда процессия подошла ближе, я разглядел рогачи, кочерги, мотыги и метлы. Распевая молитвы и сгибаясь от усилия, женщины тащили соху, оставляя за собой на лугу тонкий темный след. Скоро я узнал в главной из впряженных в соху вдову Семеновну, о которой слышал накануне, по обеим сторонам ее шли молоденькие девушки. Пахала на подругах тоже девушка, совсем юная, подросток.
Подойдя к перекрестку у въезда в деревню, процессия грянула: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!" Трижды пропев Трисвятое, толпа зачастила: "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков!" В следующий момент шедшие за женщинами с криками: "Бей его! Секи его! Руби его" набросились на дорогу у перекрестка, остервенело молотя землю своими рогачами и мотыгами. Я ощутил, как волосы на моей голове приподымаются…
Внезапно все прекратилось, те из процессии, что были с метлами, стали торопливо заметать следы буйства своих товарищей. Семеновна снова взялась за оглобли, и процессия двинулась дальше. Они прошли совсем близко с моим укрытием; из-за кустов я отчетливо видел их лица: отрешенные, закаменевшие, с вытаращенными глазами. Внезапно мне пришло в голову, что если кто-то из них сейчас заметит меня, то все набросятся на чужака и с такими же криками, как только что на дороге, будут бить и сечь, пока от любопытного не останется одно кровавое месиво…
Я невольно пригнулся и только слышал, как процессия стала медленно удаляться. Тонкие голоса, возносившие славу Богородице, постепенно затихали вдали, и я выпрямился в полный рост.
Тихий шорох внезапно раздался за моей спиной. Я торопливо оглянулся. Передо мной стоял некто в домотканом полукафтане, таких же шароварах и высоких сапогах. Лицо незнакомца скрывала тень от шапки, надвинутой по самые глаза. Свет луны падал на него сбоку, отбрасывая странную раздвоенную тень – будто лун на небе было две.
– Кто ты? Что тебе надобно? – торопливо спросил я, чувствуя, как холодеет внутри.
Вместо ответа он вдруг тихо зарычал и ступил ближе. Лунный свет смыл тень с его лица, четко вырисовав на нем каждую черточку.
– Пискижев! – в ужасе завопил я, отступая назад. Ветки куста уперлись мне в спину. Покойный колдун прыжками бросился ко мне, и я отчаянно отмахнулся тем, что держал в руках – бутылкой. Струя красного вина вылетела из горлышка и окатила его, будто кровью. Он зашипел и отпрянул…
– А – а – а!..
Я вскочил и больно ударился головой о верхний полок. Сел обратно на мягкую шкуру, испуганно осмотрелся. Тусклый свет вливался через маленькое окошко бани, в мягких сумерках были видны скамья у стены и печь-каменка в углу. Я был один. И кричал только что тоже я.
Осторожно, чтобы не удариться снова, я встал. Нашел на полу свои туфли, обулся и вышел наружу. Солнца по-прежнему не было видно из-за туч, но день явно клонился к закату. Я бросил взгляд на часы – скоро стемнеет. Я проспал часов шесть.
Я ополоснул лицо под рукомойником во дворе, прогоняя остатки дремы и только что виденного кошмара. Это ж надо, конец девятнадцатого века, студент Императорского университета, колдун Пискижев… Приехал я в командировку. Скоро черти перед глазами будут прыгать…
Рядом с умывальником на крючке висело суровое льняное полотенце, старенькое, но чистое. Я утерся и пошел в дом.
Посреди горницы стоял накрытый стол, и все общество восседало за ним, ужиная. Увидев меня, Дуня вскочила и заулыбалась.
– Проснулся! А я уже хотела идти будить…
Она придвинула стул и поставила на стол передо мной тарелку с жидким прозрачным медом.
– Ешь!
Посреди стола на большом блюде возвышалась стопка блинов. Я взял верхний (он оказался горячим, еле в руках удержать), свернул в трубочку, обмакнул в мед, откусил. Мед был сладкий, но не приторный, и непривычно ароматный, блин – мягкий и сочный. Девичья рука сбоку поставила рядом кружку с молоком. Я отхлебнул. Молоко отдавало сладковатой свежестью – домашнее, только что от коровы. Все вместе – блин, мед и молоко, было необычайно вкусным. Я мгновенно расправился с первым блином, потянулся за следующим.
– Нравится?
Я поднял взгляд. Маргарита смотрела на меня, улыбаясь. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели. Сейчас она поразительно походила на ту Риту, с которой я танцевал вчера вечером.
– Вкусно! Я с прошлой ночи ничего не ел.
– То-то Дуня переживала, – засмеялась Рита. – Как же он там, в бане, голодный? Бедненький…