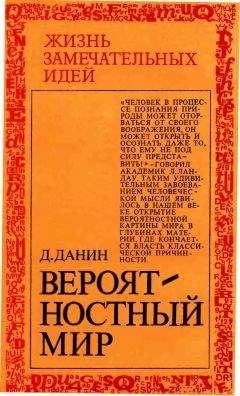Суть понятна: чисто математически можно так раскрыть эйнштейновские формулы, что скорость света вдруг окажется не верхним, а нижним пределом допустимых скоростей движения. Тогда запретными станут все скорости не выше, а ниже световой. Мы очутимся мысленно в «мире наоборот». Тахионы — воображаемые частицы такого математически разрешенного мира.
Но для телепатических построений такие частицы едва ли пригодны. Тахионы — по идее молодого парапсихолога и пожилого философа — должны служить переносчиками таинственной информации между человеческими особями. Однако эти частицы заведомо не могут испускаться и поглощаться атомными конструкциями того вещества, из которого мы достоверно сотканы. В нашем мире, где сверхсветовые скорости в физических событиях абсурдны, все законы физических взаимодействий должны были бы сначала стать иными, чтобы обеспечить тахионам, во–первых, рождение и, во–вторых, информационную роль.
Дж. Дж. Томсон когда–то не без яда сказал, что природа, по–видимому, создана не для удобства математиков. Можно заметить, что и не для удобства физиков. И уж того меньше — для удобства парапсихологов: их исследовательские муки еще все впереди и дойдут до кульминации не раньше, чем станет доподлинно известно, что же именно надо объяснить…
Когда Эйнштейн просил прощения у Ньютона, ему уже было шестьдесят восемь. Сорок два года прошло со времени появления теории относительности. Ее утверждения давно уже выдержали проверку на истинность. Уже не одно десятилетие физика атома и физика звезд на каждом шагу опирались на ее формулы. А Эйнштейн, обращаясь к Ньютону через века, почему–то заверял своего великого предшественника, что «понятия, созданные тобою, и сейчас еще остаются ведущими в нашем физическом мышлении»!
Отчего такая честь? Разве новая механика не отменила классическую?
Это все равно, что спросить: разве движение со скоростями, близкими к световой, не отменило обычных движений? Нелепый вопрос, не правда ли? А если так, то и классическая механика жива–здорова. Теперь лишь ясно очертилась одна из границ ее применимости — ее плодотворности. Но и эта граница простирается так далеко, что даже нынешняя космонавтика для верного расчета траекторий спутников и космических станций нужды в эйнштейновских формулах не испытывает. Самые скоростные космические аппараты летят сегодня в десятки тысяч раз медленнее света. И формулы, основанные на старых добрых классических принципах, работают с точностью до 8 — 9–го знака после запятой.
А кроме широких пределов своей пригодности, старая механика завещала новой веками выработанный словарь познания. И вместе с этим словарем — обширный круг неотменяемых представлений. Эйнштейну в 1905 году не пришлось приниматься за словотворчество: теория относительности могла быть написана и была написана на языке классической физики.
В сущности, единственно новым и решающе важным обогащением старого словаря стало только само название механики Эйнштейна: релятивистская. Физики начали говорить о релятивистских формулах, релятивистской массе, релятивистском импульсе, релятивистских частицах и прочее и прочее. И вот получилось, что одно прилагательное сразу как бы удвоило прежний словарь. Возможности верного описания природы выросли скачком.
Если бы еще умели возрастать скачком возможности нашего воображения!
Теория относительности стартовала на удивление вовремя — как раз тогда, когда начал приоткрываться микромир, где уже почти ничего нельзя было бы достаточно верно описать прежними именами существительными без новых прилагательных: квантовый и релятивистский… Вот уж воистину:
Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовется…
7
Сверх этих двух тютчевских строк просятся в нашу хорошую историю два маленьких эпизода из «Войны и мира». Хотя, разумеется, у Толстого, как и у Тютчева, не о физике речь, да зато о нас с вами. Оба эпизода — о затруднениях нашего воображения, когда оно разлучается с логикой. И о затруднениях нашего понимания, когда оно лишается поддержки воображения.
…Шестнадцатилетняя Наташа Ростова, переполненная впечатлениями жизни и своими смутными чувствами, говорит матери — добросердечно здравомыслящей графине — о Борисе Друбецком:
__ …Очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе — он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый…
— Что ты врешь! — сказала графиня. Наташа продолжала:
— Неужели не понимаете? Николенька бы понял… Безухов — тот синий, темно–синий с красным, а он — четвероугольный…
Что делать графине? Как ей понять Наташу, если по заведенной логике общедоступных представлений нет на свете «узких, серых, светлых, четвероугольных» молодых людей, равно как и «темно–синих с красным»?
Но если «Николенька бы понял», то стало быть что–то такое на свете есть? Наверняка есть: вот ведь и Наташа это «что–то» понимает.
А каково нам? Мы–то с кем — со старой прямодушной графиней («Что ты врешь?») или с юной, всех влюбившей в себя и целый мир обольстившей Наташей («Неужели вы не понимаете?»)? Естественно, нам хочется с тщеславной поспешностью сообщить Наташе, что мы безусловно с нею и, как Николенька, превосходно ее понимаем: нельзя нам перед нею ударить в грязь лицом! Правда, то, что мы при этом искренне или притворно понимаем, может быть, вовсе и не совпадает с Наташиным пониманием. Но это и не важно: Наташа внушает нам странное знание— ни для кого не обязательное и точное только в пределах нашего доверия к проницательности ее детской души.
Однако дело еще сложнее.
Воображение, конечно, вольная птица. Но мы редко замечаем, что вылетает оно из клетки, которую всю жизнь расширяет наше трезвое познание действительности. В эту клетку воображение постоянно возвращается за питательным кормом. Такое независимое и возвышенное, оно на самом деле «ест с руки» — у логики с руки… В ночном разговоре с матерью Наташа лишь то и сделала, что вольно выразила свое логически созревшее суждение — нелестное для Бориса и лестное для Пьера. Она потому и спрашивает — «Неужели вы не понимаете?», что сама уже главное поняла — вполне разумно поняла — про обоих, и даже уверена в своей правоте. Она ведь немножко лукавит: ей просто не хочется окончательности, приговора, решения. И она высказывает свое суждение так, чтобы его нельзя было обсуждать, а можно было бы только схватить налету и без разбирательства принять за истину. Она ставит в тупик графиню, оттого что та не улавливает связи между образом и логикой.
А позднее приходит день, когда в иных обстоятельствах жизни попадает в сходное положение и Наташа. Это когда Толстой дает ее глазами свое знаменитое иронически уничижительное — «остраненное» — изображение оперных сцен:
…В этом серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей.
…Потом прибежали еще какие–то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили…
Отчего другие аплодировали, а Наташе все казалось нелепым и стыдным? Может быть, она не понимала происходящего? Нет, Толстой не поскупился сказать, что она заранее знала смысл изображаемого — логика действия была ей известна. Не в том ли все дело, что ее воображение рисовало эти заранее известные события на сцене совсем по–иному? Ее даже осеняло желание «вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса».
Графине в ночном разговоре следовало смирить свою прописную логику. Наташе в театре пришлось — по не следовало бы! — смирить свое правдивое воображение.
Пришлось! Могла ли она, совсем еще девочка, долго противостоять атмосфере светски–ненатуральных восторгов лож и партера? Созерцание не сцены, а окружающего, сделало свое дело. После третьего акта «Наташа уже не находила этого странным». И наконец:
Опять поднялся занавес… Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед ней, уже казалось ей вполне естественным.
Между прочим, не заложено ли в этом сравнительно раннем эпизоде романа будущее Наташи Ростовой — благонравие и тривиальность ее взрослой жизни? Смирившееся воображение— непоправимая беда.
…А какое это имеет отношение к нам с вами?
У каждого есть право сказать: «Никакого!»
Но наука — дело человеческое. В поворотные времена ее истории тяжбы между логикой и воображением очень напоминают те, что заурядно происходят в обыкновенной жизни, хоть и остаются незамечаемыми или неосознаваемыми нами.
Глава третья. Встреча идет.
1
Надо вновь заглянуть на минуту в осенний Брюссель 1911 года — в маленький зал заседаний 1–го конгресса Сольвея, где виднейшие физики Европы, числом 23, четыре дня вели дискуссию о квантах излучения.