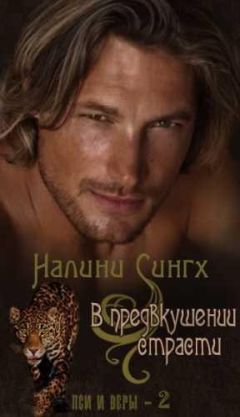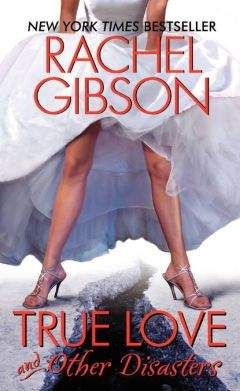А тем временем поляки, молодые и старые, отчаявшись, вернулись в мезон.
— Как быть, что делать? — уныло задал риторический вопрос один из старших. И добавил еще два вопроса, — Где он? Что скажем мы Папе Римскому, когда он явится сюда утром?
Приуныли.
Лех, не в силах сдерживаться, сказал со смертной тоской:
— Где он — известное дело. Казните меня, панове. Я один во всем виноват.
— Ты знаешь, где он? — самый старший поляк, именем Кшиштоф, поднялся с шеза. — Где же?
— У Неустрашимых, — едва слышно произнес Лех.
— Как? Громче!
— У Неустрашимых.
Сделалось тяжелое, грозное молчание.
— Объясни, — попросил Кшиштоф.
— До нашего еще приезда — стал он к ним ходить. Я сперва не понял, куда он ходит, дума, что к девушке.
— Ходит?
— Каждую ночь. Я вызвался его стеречь, вон там, в том помещении, пока остальные спят. И никто меня не сменял. Привыкли. Он меня упрашивал долго, ну я и позволил.
— Что позволил?
— По ночам ходить. Я думал — к девушке. Сперва мы вдвоем вылезли через окно и пошли… потом еще раз… Он доходил до мезона и ждал, пока я уйду. Я думал — чтобы девушку не смущать.
Ежи, Адам и Дариуш, сгорая от стыда и ярости, вскочили на ноги.
— Ты за это ответишь, — сказал Адам. — Ты, кривая рожа, так ответишь, что день проклянешь, когда матка твоя, курва подлая, тебя зачала.
Лех сверкнул глазами.
— Тихо! — сказал старший, Кшиштоф. — Ругаться мы будем потом.
— Я убью это рольниково отродье.
— Когда тебе будет угодно! — крикнул Лех в ответ.
— Тоже потом! — прогремел Кшиштоф. — Сперва надо бы выяснить, что к чему! Молчи, Адам. И остальные — щенки! — тоже молчите! Говори, Лех. Но говори всю правду. Так лучше будет, всем.
— Один раз, — сказал Лех, с трудом сдерживая ярость, подавляя стыд, глядя на Адама. — Один раз… Он запозднился… — Лех перевел взгляд на Кшиштофа. — Запозднился. Я уж начал переживать, что он не вернется вовремя, эти проснутся, а его нет. Пошел я к тому мезону, ему навстречу. Думал, может он уснул там, с девкой своей. Иду по страту, вижу — они навстречу, пахолек наш, а с ним другой, статный такой, большой. Я спрятался за липу. А они прошли мимо. А я за ними. А они переговариваются.
— Они не заметили твой факел? — спросил Кшиштоф.
— Не было со мной факела. Ночь была ясная, луна светила. Да… Переговариваются они по-шведски… А только слышу я слово «Интрепид» — несколько раз. Ну и догадался я. Они разошлись, пахолек пошел сюда, а я за другим. Тот обратно к мезону. Я за ним. Он в мезон, а я у двери встал, а там внутри голоса. Не на местном наречии, а больше по-шведски. Я плохо понимаю. Понял только, что главного у них зовут Нестор.
— Что ты болтаешь, — сказал Дариуш. — Главный у Неустрашимых — Рагнар, из рода Дренготов.
— Помолчи, Дариуш, — велел Кшиштоф.
— Да болтает он…
— Помолчи. Рагнар Дренгот надо всеми главный. А Нестор этот главный — здесь. Что еще тебе известно, Лех?
— Больше ничего.
— По-шведски Неустрашимые — Офорскракт, — сообщил Ежи.
— Они по-латыни говорили, — догадался Дариуш. — «Интрепид». Для хвата нашего Леха все иноземные языки — шведский.
— Невежественный рольник, — пробормотал Адам.
— Тише! — велел Кшиштоф. — Лех, мезон тот где стоит?
— На Рю Ша Бланк.
— Какой он с виду?
— Самый большой там. Черепичная крыша.
— Прекрасно, — сказал Кшиштоф. — Теперь помолчите все. Мне нужно подумать.
Вот, старина Кшиштоф, подумал он. Вот и настал главный момент. От того, что ты сейчас решишь, зависит столько, что если ошибешься — сам себя презирать будешь, да и перед Создателем ответишь. А ты еще осуждал Бенедикта за блуд! Плохой, мол, пример подает Бенедикт пастве! А ведь он, Бенедикт, бросив все дела, поехал с тобою в эту дыру, уговаривать нашего мерзавца! Как он печется о своей пастве, о Полонии — а? А эти сопляки что же? Спеси много — а сами бессовестные, ленивые! Вчетвером не смогли два жалких месяца за одним мерзавцем толком уследить, дармоеды! А Бенедикт — посланцев с дороги послал к Конраду и к Ярославу, еще какие-то дела улаживал — и в Риме, и по дороге, при нас, а мы и ухом не повели, лясы точили, да еще и злословили, да еще и возмущались, мол, целый гарем с собой везет. А на самом деле Папа Римский делает больше, чем кто-либо в наше растреклятое бесчестное время, печется о наших душах… Делает, делает. А все, что делаем мы — умный вид. И слова умеем говорить негодующие. А как до настоящего дела доходит — то вот они, результаты.
— Лех виноват столько же, сколько остальные, — сказал он. — Сколько я. Меня назначили здесь главным — нужно было мне одного из сопляков взять с собою в Рим, а одного старика здесь оставить. Я не подумал, старый дурак, понадеялся… на то, что если благородный юноша берет на себя ответственность, значит… а оказалось, что ничего это вообще не значит! Но теперь речь не об этом. Если к утру пахолек не вернется, нам ничего не останется, как только… как… признаться в нашей дурости и безответственности Папе Римскому. И предоставить себя в его распоряжение, восемь свердов — раз на большее мы не способны. Может, он что-нибудь придумает.
— А если появится? — сказал Ежи.
— Если пахолек появится, — продолжал Кшиштоф, — о чем я молю Создателя… Если появится, то… все притворимся спящими. Затем… — Кшиштоф задумался. — Он заходит в мезон, мы его хватаем, дверь запираем, и ждем прихода Папы.
— И что же Папа сделает? — спросил Ежи.
— Папа его уговорит.
— Уговорит?
— Если Папа… ручаюсь вам, бросит пахолек Неустрашимых и сделает то, что ему положено. Станет нашим повелителем… станет другим человеком!
— Такой убедительный этот Папа? — с сомнением спросил Дариуш.
Старшие переглянулись и улыбнулись невесело.
— Тебе, бездельнику, не умеющему держать слово, это не понять, — сказал Кшиштоф. — Папа Римский уговорит самого Люцифера принять крещение.
Он не преувеличивал — он действительно так думал. Во время одной из стоянок на пути в Париж, Бенедикт завел с Кшиштофом разговор и убедил его, что всех его (Кшиштофа) детей и внуков следует сделать мужеложцами, ибо в походе мужеложцы — самые выносливые и отважные. И Кшиштоф поверил — Кшиштоф поверил! — после чего Бенедикт засмеялся и сказал, что это такая шутка, и что вообще-то чрезмерная серьезность — признак медлительного ума.
— А тем временем, — сказал Кшиштоф, понижая голос, — мы окажем ему, Полонии, да и всему миру небольшую, но добрую, услугу. Это честь великая для каждого воина, поэтому я не хочу назначать… да… посылать… Будем тянуть жребий. Одному из нас выпадет — если пахолек вернется до прихода Папы — идти в это змеиное гнездо… выманить… как бишь его? Нестор! Выманить Нестора, вызвать его на поле чести, и убить. Жребий будем тянуть прямо сейчас. Вот несколько соломинок… нужно шесть…
— Шесть? Почему же шесть? Нас тут восемь человек, — заметил Дариуш.
— А зачем же старшим стараться? — спросил Ежи. — Четыре соломинки.
— Я без всяких соломинок пойду и все сделаю, — сказал Адам яростно.
— Тише, — сказал Кшиштоф.
— А Леху поручать нельзя. Три соломинки, — вмешался Ежи.
— Тише вы все! Шесть соломинок нужны потому, что Лех, само собою, не пойдет.
— Почему же? — возмутился Лех.
— Недостоин потому что, — отрезал Кшиштоф, и Лех стал лиловый от стыда и отчаянья. — И я не пойду. Я бы пошел — как Адам, без жребия — но я ответственен здесь за всех, и за исход дела, перед Полонией и перед Риксой Лотарингской. Молчать! Всем молчать! Всем лечь и притворяться спящими! Видите входную дверь? Молитесь, чтобы в нее вошел пахолек, а не постучался Папа Римский!
ГЛАВА ПЯТАЯ. СОВЕТ СОДРУЖЕСТВА
В Шайо, деревушке захолустной несмотря на близость — чуть больше миллариума — от Церкви Святого Этьена — оставались лишь пейзаны и один фермье. Остальные жители, легкие на подъем в силу скромности имущества, месяц назад все как один решили переменить место жительства. К тому у них имелись веские причины.
А было так.
Значительное число вооруженных норманнов, а может быть варангов (около тридцати) прибыли в деревушку и остановились в четырех брошенных домах на краю. Один из домов оказался брошенным лишь отчасти — там жили нищие. Им прибывшие заплатили, и они куда-то ушли.
В Шайо считалось, что ежели человек на лошади, сбоку сверд болтается, на лице презрение, а человеческий язык понимает с трудом — значит, норманны. Для жителя Шайо и Аттила был бы норманн.
Через неделю после прибытия «норманнов» деревенский идиот Рене-Огюст обнаружил в близлежащем лесу, где часто шлялся без толку, труп Жанетт — жены ремесленника Бутона, который искал пропавшую три дня, да и махнул рукой — сбежала, мол. Несмотря на июльские заботы, вся деревня ходила смотреть на труп, пока возмущенный священник маленькой деревянной церкви не вразумил жителей и не наорал на Бутона, чтобы тот похоронил убиенную.