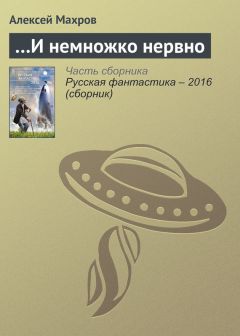– Я? Ни в коем случае, – уверенно заявил Лобов, а про себя подумал: «Вроде никакой отрицательной энергии на браслете не ощущается, но вернемся к себе, надо будет его тщательно протестировать самому и дать его на проверку Валентину. Одно дело – простой материальный носитель времени, и совсем другое – магический артефакт. Хотя семейное предание, скорее всего, просто сказка-страшилка».
– Вполне возможно, что это просто сказка, но проверять, так ли это, на своих сыновьях, сами понимаете, у меня нет никакого желания. В пользу того, что владелец его был опричником, говорит вроде бы собака, изображенная на браслете. Но… Уж больно неправильная какая-то собака. То ли такса, то ли нечто похожее. Явно не звериного вида. И обратите внимание на ее странный хвост. Он закручен овалом, как бы описывая собой все тело собаки. Интересно, правда?
– Но символ опричнины не собака, а собачья голова с оскаленной пастью, – влез со своим замечанием Валентин. – Так что вряд ли этот браслет символизирует принадлежность его хозяина к опричнине. Голова, именно собачья голова, а не собака целиком, символ опричнины.
– Это верно, – поддержала его Анастасия Федоровна. – Историки даже отмечают, что отрубленную собачью голову опричники возили привязанной к своему седлу.
– Ну это вряд ли, – возразил ей Лобов. – Такое мог придумать только человек, ни разу не покидавший своего кабинета. Во-первых, лошадь будет шарахаться, как очумелая, а во-вторых, вы представляете, какая вонь от этой отрубленной головы? Порой мне кажется, что историки – это банда… кх-м… не совсем адекватных фантазеров.
– Ну что вы, Роман Михайлович, с чего это у вас сформировалось такое ложное представление об историках?
– Ох, Анастасия Федоровна, я вам сейчас расскажу об эпохе Дмитрия Донского. Ведь они, эти ваши историки, все там наврали. А по глупости своей или по чьему-то заказу – надо еще разбираться.
– С удовольствием вас выслушаю, Роман Михайлович. Но что это мы в холле стоим? Давайте пройдем в мой кабинет. И… Все-таки у меня сегодня такой праздник. Я даже успела бутылочку шампанского сбегать купить.
Но тут намечающуюся идиллию одной лишь репликой умудрилась сломать Вера. Глядя на директрису музея «московским», по ее определению, взглядом, она жестко заявила:
– Роман Михайлович, у нас же еще сегодня дела, мы не можем тут больше задерживаться.
– Ах да, – спохватился Лобов. – Извините, Анастасия Федоровна, мы вынуждены торопиться. Как-нибудь в другой раз… Еще раз спасибо за браслет.
Они еще пару минут раскланивались и благодарили друг друга, но главное было уже сказано Верой – обе стороны выполнили свои обязательства и настала пора попрощаться.
– В принципе мы могли бы еще на полчасика задержаться в музее, – недовольно буркнул Лобов, когда он и его соратники уже сидели в машине. – Может, удалось бы получить еще какую-нибудь ценную информацию о браслете.
– Все, что она знала, она нам уже выложила, – отрезала Вера. – Чего время тянуть? Успеем еще сегодня сделать пробный полет.
– Скорей бы уж, – поддержал ее Валентин. – Кстати, Роман Михайлович, как нам эпоха Ивана Грозного? Подходит?
– Вполне. – Лобов уже позабыл об Ореховском краеведческом музее и его миловидной директрисе и включился в работу. – Странное царствование, во время которого были совершены и великие дела, и великие злодеяния. Опричнина, земщина… Во всяком случае, без гражданского противостояния там не обошлось. Смута, кровь великая… А как подсказывает наш не очень богатый опыт, где кровь и смута, там и надо искать рыбасоидов.
Более мерзкого сна Валентину за всю свою почти тридцатилетнюю жизнь видеть еще не доводилось. А сон меж тем – простой-простой. И в этой-то простоте и какой-то примитивно-натуралистической достоверности весь ужас и заключался. Снилась ему обычная метель. Подумаешь, метель. Ну кто не видел метели из окна своей теплой, благоустроенной квартиры? Но в том-то и состояла вся жуть этого странного сна, что смотрел Валентин на метель не со стороны, не из окна своей квартиры, а как бы изнутри.
Ветер ревет и свищет, гоня мимо него снежные заряды. Черное ночное небо, едва подсвеченное тонким серпом полумесяца, все исчеркано снежно-белой штриховкой. Валентин до того окоченел, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он лежит, привалившись спиной к какой-то стене, и ветер уже намел вокруг него приличный сугроб. «Снег – это хорошо, – думает Валентин. – Он поможет мне согреться. Когда меня полностью занесет толстым слоем снега, мне станет хорошо, тепло». Глаза его смыкаются, он уже не видит этой черноты частых белых линий, стремящихся в бесконечность. Метель перестает визжать, реветь, грохотать. Она теперь лишь поскуливает, как заблудившийся щенок, и ласково шепчет Валентину в уши: «Спать… Спать… Спать…» Валентин чувствует, что засыпает, и тут откуда-то в мозгу всплывает парадоксальная мысль: «Сон внутри сна. Это интересно. Как матрешка. Меньшее в большем. Воображаемое в сущем. Но если сон во сне, то что здесь воображаемое, а что сущее?» А метель, успокаивая и умиротворяя, продолжает насвистывать ему свою колыбельную, ненавязчиво предлагая забыться, впасть в нирвану покоя и перестать задаваться дурацкими вопросами, не имеющими ответа. Но тут до его слуха доносится звук. Какой-то посторонний, неправильный, совершенно не соответствующий уже ставшему привычным метельному звукоряду. Это звон. Похоже не на колокольчик, но и не на колокол. А как будто кто-то увесистой связкой ключей звенит, преднамеренно потряхивая ею при каждом шаге. Звон становится все ближе…
– Эй, паря! Живой ли?!
Валентин открывает глаза и соображает, что вернулся из второго сна в первый. Ревет все та же страшная метель, но теперь перед ним лицо склонившегося человека. Ветер растрепал его волосы и бороду, набил их снегом, оледенил, и теперь человек напоминает сказочного льва со снежно-ледяной гривой. Он был странный, очень странный, этот человек. В такую-то метель, в такой-то жуткий холод он был одет явно не по погоде: в черный широкий балахон, прикрывающий ноги только до середины голени, а ниже… Ниже были голые ноги без какого-либо подобия обуви на них. Но самым странным было даже не это. На груди у человека висел огромный железный крест. Скорее, это правильнее было бы назвать не крестом, а большой, толстой пластиной, у которой были выбраны углы, что делало ее похожей на крест. Здоровущая железяка эта была подвешена на цепи чуть потоньше якорной. Причем цепь не висела на шее у человека, а шла за спину, опускаясь почти до самой земли, и уже оттуда поднималась к нижней части креста. Дополнялось это скобяное великолепие поясной цепью, обернутой вокруг талии несколько раз и не позволяющей необычному нагрудному кресту свободно болтаться.