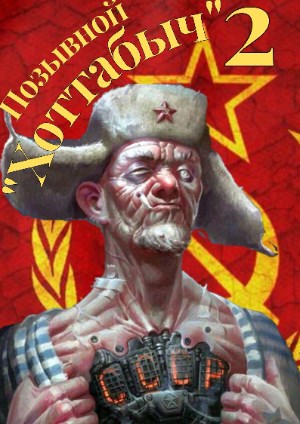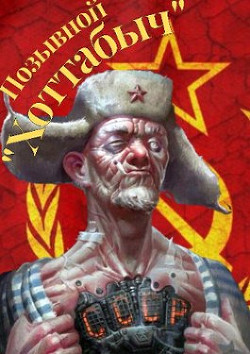ну ты же сам все понимаешь… — Начал было опять читать мне «мораль» командир, но неожиданно напоролся на мою «просящую снисхождения» физиономию, отдаленно напоминающую умильную морду кота из Шрека, только лысую, дряблую и морщинистую. — Короче, ну не из Кремля же мы своими ножками пойдем? Остановимся за пару кварталов от дома, и прогуляемся, если уж невтерпеж.
— Командир, ты настоящий человек! Человечище! — Радостно произнес я, запрыгивая в салон.
Поскольку водителя не наблюдалось, я решил, что вести будет оснаб, поэтому и занял место рядом с водителем. Я не прогадал — командир действительно уселся за руль, и мы покатили «на выход» из Кремля. Все то время, что я находился в этой параллельной реальности, куда попал после своей смерти, я еще ни разу не прошелся по этим старым Московским улицам, образца 1943-го года — все на автомобиле, да автомобиле. А мне этого так хотелось! Хотелось просто до дрожи в коленях! Ведь это Москва моей молодости! Правда в сорок третьем году я был далеко отсюда… Но разве что-то решают два-три года? Даже пять? Эта та же самая Москва, где я был безмерно счастлив! Та Москва, где я был полон надежд на светлое будущее! И эта та самая Москва, где я встретил свою любовь… Останови! — неожиданно воскликнул я, едва не перепугав до икоты оснаба.
Ну, перепугав, это я конечно передергиваю — напугать командира, это еще постараться надо… Но я, видать, постарался.
— Офонарел? — Машина, истошно взвизгнув тормозами, резко остановилась, и я едва не высадил лбом лобовое стекло — никаких ремней безопасности и в этом времени и в помине не было. — Чего чудишь, старый? — Петр Петрович повернулся ко мне, едва не пожирая глазами. — Угробиться решил?
— Больно, сука! — Я потер стремительно растущий на лбу «рог». В голове шумело, а шишак болезненно пульсировал.
— Еще бы! Хорошо, что стекло крепкое… Что случилось-то? — обеспокоенно спросил он. — Ты как будто самого Господа Бога увидал?
— Вон в том доме, — я указал на противоположную сторону улицы, — моя благоверная… Глафира Степанна, упокой Господь её душу, жила… — И по моей бритой щеке прокатилась одинокая слезинка. — Сколько раз я её до этого дома провожал… что и не упомнить… А как мы с ней целовались украдкой в вечерних сумерках, чтобы её батька с мамкой не заметили…
— Слушай, Хоттабыч, так она же… — И он осекся, как-то испуганно на меня поглядывая.
Какой же я дурак! Ведь она и вправду жива! Пусть не она, а её двойник… Ведь существовал же мой… И я рванулся «на выход» — только ткань рубашки затрещала.
— Ты куда это собрался, старый дурак? — Рука командира крепко держала меня за ворот. — Уж не к благоверной ли своей, намылился? Можешь не отвечать — сам вижу! И мне для этого тебе даже в башку залезать не нужно!
Я дернулся, но оснаб держал крепко, да и ткань рубашки оказалась выше всяких похвал — выдержала, не порвалась.
— Подумай, Хоттабыч, кто ты сейчас? — Охладил мой командир. — Ты совсем не тот молодой офицер, красавец и герой войны, кем был семьдесят лет назад! Ты старый и дряхлый старикан! — Он намеренно бил по самому больному, чтобы охладить мой «грудной пожар» — И ты что ты ей скажешь? Здрасьте, я ваша тётя? Вернее, деда! Ты только девчонку испугаешь… Ведь сколько ей сейчас? Восемнадцать-двадцать?
— Я понял… — глухо произнес я, а в груди сильно защемило. — Спасибо, командир… Бес попутал…
— Да не бес это, Хоттабыч, — я увидел в глазах командира какую-то затаённую печаль, — это любовь… Только теперь эта любовь для тебя — недостижима… Прости, старина, но теперь она… Не для тебя…
— Но я же могу её просто увидеть? — с надеждой спросил я. — Хотя бы мельком? Не затевая разговоров, не заходя в гости? Как обычный прохожий?
— Предлагаешь, подождать её? — спросил оснаб. — А если она так и не появится?
— А вдруг? Давай пройдемся по улице, немного постоим… Посидим немного на лавочке… И если её не увидим…
— Продолжим в следующий раз? — ехидно поинтересовался оснаб.
— Ты все-таки лазаешь у меня в голове, командир! — Я по-дружески ткнул его кулаком в плечо.
— Да у тебя на лбу все написано! Вот такими буквами! — Рассмеялся Петров. — Ладно, пойдем уж, прогуляемся…
— Командир… — Я сглотнул комок, вставший в горле, и попытался вновь «вывалится» на знакомую до боли улицу. Но был опять остановлен Петровым.
— Не спеши, старичок! — Оснаб вытащил из перчаточного ящика наручные «командирские» часы. — Примерь-ка вот эту вещицу.
— Зачем? — удивился я, принимая дорогой «подарок» из его рук. — Мне форсить уже поздно…
— Примерь-примерь! — Настаивал на своем оснаб. — Это не простые «котлы» [2], а очень даже особенные!
[2] Котлы — часы (тюремно-лагерный жаргон). В лагерях для заключенных, занятых на шумных стройках, о перерыве на обед, а также о начале и окончании работы оповещали с помощью списанных с кухни котлов. В такую посуду звонили, как в колокола. Тогда это слово обрело особенный смысл. Со временем оно стало использоваться вне контекста и перешло в жаргон.
— И чем же? — застегивая кожаный ремешок, поинтересовался я.
— Это самый мощный из известных на данный момент блокираторов Силы, — пояснил оснаб. — Новейшая разработка! Сам понимаешь, что лучше перебдеть. А то тебе буденовку от встречи с молодой благоверной сорвет — и порушишь, нахрен, всю округу!
— Да я… Я буду держать себя в руках! Обещаю, командир! Ты же знаешь, мое слово — кремень!
— Знаю, — спокойно кивнул оснаб, но и подстраховаться не помешает!
Мы вышли из машины и медленно перешли дорогу. Я во все глаза пялился на две девичьих фигурки, которые пропалывали от сорняков большие клумбы, на которых «колосилась» обычная сельская «культурка». Я запоздало вспомнил, что в феврале 1942-го года московские газеты стали призывать горожан активнее заниматься садоводством и огородничеством. Для этого москвичам рекомендовалось использовать даже балконы жилых домов. Вместо плюща и настурций окна городских квартир предлагалось обвить обыкновенным горохом. Газоны же во дворах по весне засевать не красивой, но абсолютно бесполезной травкой, а съедобной зеленью — лучком, укропчиком и петрушкой.
Москвичи охотно вняли этим призывам. Уже в