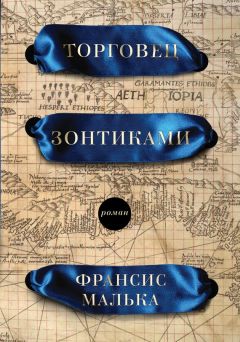– Заседание переносится вплоть до нового распоряжения, – объявил Ланфранки. – Подозреваемый, ради собственной его безопасности, будет содержаться под стражей. Не беспокойтесь, мы тем временем прольем свет на учиненные ему обвинения в ереси.
Два стражника схватили меня с двух сторон за запястья и – бесшумно, но быстро – поволокли из зала судилища. Сидя в смежной с залом комнате, я вынужден был в течение долгих часов слушать, как разгоняют толпу, требуя, чтобы люди отправились наконец по домам. Я ни за что не хотел бы оказаться в этот момент за стенами трибунала – да это было бы куда хуже любой бури.
Когда все снаружи успокоилось, те же стражники перевели меня на другую сторону улицы и втолкнули в тюремную камеру.
Обстановка в зале, в общем-то, не требовала столь пламенного красноречия, но Ланфранки увлекся и пробудил коллективное неистовство, которое, возможно, дай оратор ему развиться, вышло бы за пределы намерений архиепископа и породило мятеж…
Теперь моим домом стала узкая келья в подвале здания напротив суда. Да, совсем близко – так было гораздо легче доставлять заключенных на заседания трибунала и уводить обратно после них, а побег, наоборот, сильно затруднялся.
Меблировано было мое новое жилье проще некуда: два убогих соломенных матраса, к тому же насквозь пропитанных влагой – камеру мне выделили ужасно сырую. Первую ночь я скоротал на правом ложе, оно выглядело более удобным, и все равно глаз не сомкнул до рассвета, хоть и устал, и холод пронизывал меня до костей.
В наружной стене обнаружилась прореха, которой как раз хватало на один-единственный солнечный луч, и луч этот в течение всего дня ласкал противоположную стену. Предыдущие обитатели позаботились о том, чтобы пометить на этой стене основные моменты дневного цикла, и я к вечеру мог уже расшифровать большинство меток. Вот эта обозначает восход солнца, та – заход, эти три – время, когда заключенных кормят завтраком, обедом и ужином, те восемь – обходы тюремных надзирателей. За много лет мои предшественники умудрились даже выцарапать две параллельные шкалы, соответствующие летнему и зимнему солнцестоянию, теперь достаточно было вставить между ними весну и осень, чтобы получить точное время любого события.
Открытие этого сложного механизма навело меня на мысли не только о творческой силе Homo haereticus[11], но ровно в той же степени – о длительности пребывания заключенных в камере. Стало быть, и моему конца не видно.
Каждый час я залезал по стене вверх и, становясь на выступающий камень, смотрел через щель на улицу. Иногда там проходил ребенок, иногда проезжала повозка, иногда попросту дул ветер. Из камеры мне открывался вид на площадь Чудес, более того, по невероятному везению, на строящуюся колокольню тоже, поскольку отсюда было заметно, что она перекрывает заднюю стену кафедрального собора. Как всегда, там сегодня суетились рабочие. Целая толпа. Сравнивая положение в пространстве одного из ребер собора с положением одной из колонн колокольни, я смог убедиться, что эта последняя и по сию пору представляет собой идеальную вертикаль. То есть написанный мной в манускрипте текст не стал явью… если только сам собор тоже не накренился.
Утром третьего дня меня несколько смутило то, что я в келье больше не одинок. Теперь мне предстояло соседствовать с каким-то парнем, мирно посапывавшим на втором матрасе.
Проснувшись, мой сосед, кажется, так же, как я некоторое время назад, удивился, что тут есть еще кто-то: должно быть, ночью, когда нового арестанта сюда привели, он в темноте меня не заметил. Однако мы и парой слов обменяться не успели, потому что, стоило ему продрать глаза, в камеру ворвались конвойные, схватили его за руки и утащили прочь.
Я снова остался в одиночестве.
Пока длилось мое заключение и пока шло расследование по моему делу, я перевидал немало мужчин и женщин, которые входили ко мне в камеру и выходили из нее. Одним удавалось провести со мной несколько часов, другим – день или даже два. Как бы то ни было, поскольку церковный суд постоянно рассматривал какие-то дела и выносил приговоры, можно было сделать вывод о его потрясающей производительности.
Во всех случаях, кроме одного.
Тем утром я – уже по привычке – залез на камень, чтобы посмотреть на площадь Чудес. Колокольня стояла все так же прямо, камни все так же неустанно обтесывались… Неужели книга дала маху? В первый раз!
Чуть позже полудня, в совершенно необычное время, звякнули цепи, на которые закрывалась дверь. В камеру явился тюремщик и велел следовать за ним.
Меня привели в комнатушку на втором этаже, приказали сесть на один из двух стоявших там стульев, потом конвоир вышел и дверь захлопнулась.
В этой темной, без окон, конуре я ожидал больше часа, не понимая, какого черта меня тут заперли. Тем не менее прогулка явно пошла мне на пользу – хотя бы потому, что одежда успела немножко подсохнуть.
Но вот в коридоре послышались тяжелые мужские шаги – значит, дверь скоро откроется. А когда я увидел, кто входит, сердце мое на мгновение остановилось.
Ко мне явился с визитом сам Убальдо Ланфранки! Вообще-то такое было мало сказать необычно: с какой стати архиепископу навещать заключенного?
– Можно мне сесть? – спросил он, и учтивый его вопрос прозвучал фальшиво.
– Пожалуйста, – коротко ответил я, махнув рукой на свободный стул.
– Ну и как? Комфортабельны ли камеры в пизанской тюрьме? – не без иронии поинтересовался он.
– Все бы ничего, вот только вчера вечером надзиратели забыли подогреть коврик у моей кровати, – тем же тоном откликнулся я. – Но, полагаю, вы пришли сюда не затем, чтобы обсудить, благоприятны ли для здоровья условия в вашем каменном мешке?
– Вижу, пребывание здесь не сказалось на вашей находчивости…
Нежданно-негаданно за этими первыми репликами последовало свободное и открытое обсуждение интересовавших нас обоих тем. В отсутствие паствы, перед которой надо было бы разглагольствовать, архиепископ, забыв об известных ему приемах ораторского искусства, определил цель своего визита достаточно четко и ясно, без каких-либо уверток.
– Давайте поговорим серьезно, – начал он. – Вы всегда были примерным гражданином Пизы, процветающим негоциантом, и жизнь вашу не омрачали никакие проблемы. Зачем вам понадобилось устраивать весь этот цирк? Ощущение, будто однажды утром вы проснулись с желанием вообразить себя самой Церковью. Что произошло? Меня это тревожит.
Казалось, он – воплощенная искренность, само сочувствие. И все-таки я предпочел ответить сдержанно, чтобы впоследствии мои слова не были использованы против меня самого.