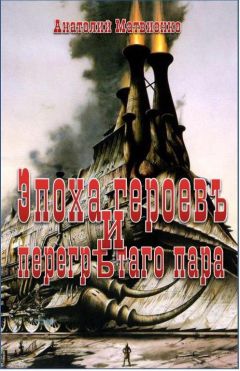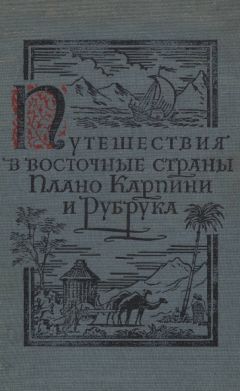Важный поворот в настроении печального мужа и Государя произвести смог лишь Пушкин, о котором Император услышал — великий поэт, в Республике опальный, почтил Москву визитом по пути в Санкт-Петербург. Появившись в Кремле, он шутовски вытянулся во фрунт, военные манеры передразнивая, и отрапортовал:
— По вашему приказу явился, Всемилостивейший Государь!
В поблекшей роскоши дворца усталый монарх обнял поэта за плечи и велел не фиглярничать, а общаться накоротке, как на посиделках в Нижнем Новгороде, запросто именуя Императора Павлом Николаевичем.
— Искренне рад, mon ami. Знавал тебя прежним, но боялся, что трон испортит да спеси добавит.
— В будущем, быть может. Уберу зло, Пестелем России принесённое, тогда и возгоржусь без меры. Сейчас увы — гордиться нечем, брат Пушкин. Расскажи лучше, что поделывал с прошлой осени?
— Путешествовал всё больше, как строгановская ссылка в Болдино отменилась, — Александр Сергеевич с удовольствием пригубил коньячку из императорских запасов. — Чаял вот в Париж податься.
— Передумал али денег не хватило?
Нужда — вечная спутница поэтов. Среди них принято наделать долгов, карточных и обычных, заложить имение и голодать подобно Шекспиру, пока лондонская публика не оценила его пьесы. Но не таков был Пушкин, любитель хорошей жизни и не терявший голову до безрассудства… кроме как из-за любви, но и эта потеря его не настигла ещё.
— Да вот, приятель мой Шереметьев из Парижа писал, уговаривал. Он туда до Революции съехал.
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далёкий полетел
С весёлым призраком свободы.
Декламируя столь же свободно, как и разговаривая обыденным языком, поэт хитро прищурился и вспомнил о шалостях, коими манит Париж.
— Приглашал всячески — поселиться на Монмартре, стишки пописывать, черпая вдохновение у парижских доступных красоток, памятуя о моей слабости к прекрасному полу. Но добавил потом: «Худо жить в Париже: есть нечего, чёрного хлеба не допросишься!» Какая же столица Европы, коли без горбушки человек там не чувствует счастья? Лучше уж в родных пенатах.
— Я о Париже лучшего мненья, — усмехнулся Павел. — Однако же и в твоих словах зерно истины есть. А здесь кого посетил?
— Перво-наперво съездил к Ермолову. У Пестеля он в опале был. Выйдя в отставку, засел в своём имении.
— Вот оно что? И как там наш Алексей Петрович? Орёл или крылья повесил?
— Такой и в клетке в курицу не превратится. Он принял меня с любезностию. Будучи знакомым по переписке лишь, с первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Когда же генерал задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит своё бездействие.
— Хорошо… Замечательно! — Император энергично шагнул к окну, оттуда повернулся к Пушкину, внимательно глядя через круглые линзы очков. — Он был настоящим хозяином Кавказа и не пришёлся Пестелю ко двору. Тот немцем Ермолова заменил.
— Людвиг Адольф цу-зайн Витгенштейн, — подсказал Пушкин.
— Германского выскочку я тотчас убрал, — отмахнулся Павел. — Но мало этого, нужен достойный человек. Скажи, Александр, ты чутьём поэтическим людей насквозь видишь, сможет Ермолов на службу вновь заступить? Верным мне быть, как и Романовым?
— Ни вам и ни им, а России, — поэт посмотрел тем долгим, особенным и немного грустным взглядом, перед которым таяли и дамы питерского света, и неукротимый палач Строганов. — Прости за столь высокопарный слог, Государь, генерал и есть таков. Лучшего не сыскать.
Странно, я советуюсь с поэтом, а не с министром или иным державным мужем, подумал Император. Узнают — засмеют. Однако здесь не столько государственный опыт, интуиция надобна.
— Кавказ предстоит в крепкую руку взять, держать в ней да быть готовым укоротить персидские да османские поползновения.
— Знаю, Павел, бывал я там. Кавказцы, особенно магометане, нас ненавидят. Разве что на армян и грузин, на христианские народы есть опора. Мы вытеснили диких горцев из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены, других Пестель за Урал переселил. Оставшиеся час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных мусульман: они всегда готовы помочь буйным единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту не бегут, завидя пушку. Зато не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Русская сторона полна молвой об их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ними наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Помню, поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Мягкостью с ними нельзя, иначе как с Грибоедовым выйдет. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства.
— Отрезать Кавказ от осман и персов, прекратить торговлю с ними. Евангелие способно воевать лучше пушек. Горские народы, принявшие Христа, нам не враги. И понимать должны, что Россия принесёт им богатство и роскошь. Одно только удобство самовары пользовать расположит их больше, чем тысяча казаков. Убедил, Александр, вызову Ермолова. А что в Москве говорят? Ты же по салонам ходок!
— Больше стихи читаю, нежели слушаю, — развёл руками Пушкин. — Свет соскучился по свободному поэтическому слову. Не далее как третьего дня был у Шишковой Юлии Осиповны.
— И как наша прелестная вдовушка поживает? Весной с ходатайством приходила, просила Александра Павловича быстрее из Шушенского вернуть. Но не могу, не могу, рано! Пусть даже его светлая голова здесь пригодилась бы. Так что ясная пани Юлия?
— Charmante fleur![7] Сему прелестному цветку молва приписывает любовников, но по снисходительному уложению света она пользуется добрым именем, ибо нельзя упрекнуть её в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключении.