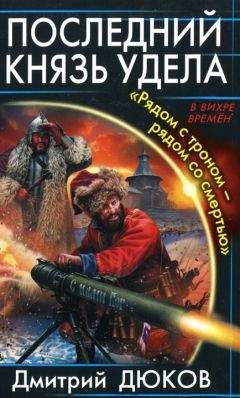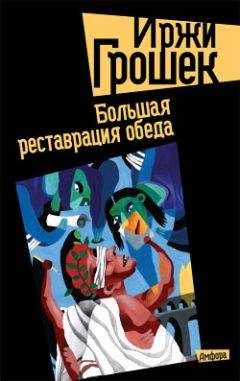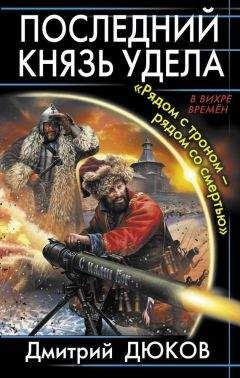— Да в день битвы с татарами у Москвы.
— А пред сонием молился ли ты, отрок?
— Конечно, вознёс молитву.
— Где же соном тебя сморило?
Пришлось напрячь память, вспоминая, где я ночевал перед битвой.
— Да здесь же, за стенами обители и легли мы спать в лагере воинском.
— От где знать знамение-то бысти, — задумался старец, осенил меня крестом и удалился.
Поутру мы посетили молебен в Троицком соборе, по совету Ждана я пожертвовал на поминовения родителя пятьдесят рублей денег, и, провожаемые благими напутствиями святых отцов, мы присоединились к давно изготовленному в путь углицкому обозу.
Путешествие в сопровождении пары десятков повозок оказалось серьёзным испытанием для нервной системы: с возами постоянно что-то приключалось, они то увязали в рытвинах, то ломались, их колёса заклинивало между брёвнами дорожной гати. Отряду приходилось делать остановки почти каждые полчаса. От Троице-Сергиева монастыря до Переяславля мы добирались два дня.
В город Бакшеев решил наш гужевой караван не заводить, причину он обрисовал чётко:
— Бо в стане-то за добром углядим, а во граде як начнём на гостином дворе тюки да торбы с возов носить, так и растащут всё тати.
Ночевать остановились на берегу Плещеева озера, за рекой Трубеж, в паре вёрст от Переяславля-Залесского и невдалеке от небольшого села. Лагерь был развёрнут споро, и стрельцы, раздевшись до исподнего, полезли в воду ловить бреднями рыбу.
Увидев это дело, я взмолился Афанасию:
— Надоела мне уже постная пища, сегодня ж суббота, давай хоть чего мясного раздобудем.
— Рыбица тут отменная, селёдка, царь к столу не брезгует, ох и сладка она, — рязанец мои кулинарные пожелания игнорировал.
— Селёдка ж рыба морская, — меня не покидала надежда переубедить Бакшеева.
— То немецкая в море-окияне водится, наша же переяславская — в озере.
Смирившись с очередным диетическим ужином, побрёл к берегу посмотреть на улов стрелецкой охраны. Добыча их действительно походила на некрупную сельдь, ранее такого вида рыб мне видеть не приходилось. Но спокойно повечерять нам была не судьба, к лагерю приближалась куча разгневанных мужиков из ближнего сельского поселения. Насколько было понятно, возмущались местные жители фактом рыбалки в их озере, а особый гнев вызывало использование в этом деле похищенных у них же сетей.
— Неводов наши люди не схищали, — отмёл обвинения Афанасий. — На чуток порыбалить взяли, опосля развесили б их на прежнем месте.
— Рыбу добывать тут мимо нас государями московскими заповедано, — пробасил один из мужиков. — Исстари то право за нашей слободой, мы за то к царёву дворцу рыбицей кланяемся.
— Нешто вы для молодшего брата государя нашего мельчайших водных тварей пожалели? — начал заводиться старый воин. — За пустое дело людишек князя рода Рюрикова бранно облаиваете?
Не желая усугублять конфликт, я дал распоряжение Ждану заплатить местным рыбакам немного денег, как плату за нарушение их монополии. Дядька моего решения не одобрил, но пару копеек заводиле крикунов кинул. Тот тут же приумолк, запихнул деньги за щёку и, поклонившись, пошёл прочь, уводя с собой свою ватажку.
Бакшеев тоже не преминул высказать своё мнение по поводу моего подарка:
— Совсем чёрный люд совесть потерял, им дай перст — всю руку съедят, нечего мужикам слабину давать.
Выразили своё удивление этим странным княжеским поступком и высокородные пленники, хотя их варианты решения проблемы несколько отличались.
Как перевёл младший татарчонок, его брат Байкильде считал, что заявление о праве исключительного пользования озером противоречит божеским законам, ибо всё, что создано Аллахом, а не рукой человеческой, должно быть в общей собственности всех единоплеменников. Так что за попрание небесных правил он предлагал догнать местный люд и дать ему плетей.
Молодой черкес же был возмущён поведением простолюдинов, повысивших голос на знатного. Он всерьёз настаивал для сбережения княжеской чести поднять отряд на коней и посечь саблями крестьян, не знавших положенного им места.
Такой радикализм ошарашил всех, но прокомментировал только Афанасий:
— Вот от таких-то порядков и бежит чёрный люд с Черкесии куды очи глядят, хоть к казакам, хоть к крымским ханам.
До этого момента Гушчепсе вообще, кажется, за весь поход не произнёс ни слова, демонстративно не интересуясь ничем вокруг. Мне подумалось, что его поведение напоминает американских индейцев из гэдээровских фильмов прошложизненной юности. В отличие от молодого уорка, его крымский кунак Байкильде во все прошлые дни старался рассмотреть каждую деталь местной жизни и высказать по любому поводу своё мнение, как правило, негативное. А поскольку для ограниченного круга лиц, понимающих татарский, ему изрекать было неинтересно, он заставлял громко переводить Габсамита. Изрядная часть конвоя, таким образом, принудительно знакомилась с крымской народной мудростью, выраженной в высказываниях и поговорках. Самая лестная из которых звучала так: «Только глупцы живут на одном месте, нюхая собственную вонь».
Прекратить это смог вчера Бакшеев, когда подъехал к сыну мурзы и предложил брать пример с молочного брата и помалкивать.
— Тилим бар айитайим! — услышал он на это гордый ответ.
— Есть язык — буду молвить, — перетолмачил рязанец и поинтересовался: — Сколько за тебя отец окупу даст златом?
— Коп кызылга, — ответил напыщенный мурзёнок.
— Много, значит, — повторил старый сторож границ. — А по весу твому даст?
Байкильде задумался и отрицательно покачал головой.
После недолгого торга Афанасий вычислил, что дадут за пленного пару фунтов драгоценного металла, и выдал заключение:
— Значит, за сорок частей тела сына мурзинского дадут едину часть злата. Усечём ему язык, станет ползолотника убытку, почитай двенадцать алтын серебром. Княже, будем за этакую малую корысть поношение терпеть?
Арифметика произвела впечатление на сына степей. Такой довод показался ему вполне убедительным, и он решил так задёшево с частями своего тела не расставаться.
Не успело улечься волнение от ссоры с рыбаками, как на место ночлега отряда принесло новых гостей. К нам подъехали городовой приказчик Переяславля-Залесского, таможенный целовальник и с ними в сопровождении пара дворян. Краткий диалог тут же перерос в ругань, прибывшие всерьёз требовали уплаты проезжего сбора и мытной пошлины.
Бакшеев вовсю возмущался:
— Ишь чего удумали, княжью казну считать да пошлиной обкладывать дары великого князя и царя всея Руси Фёдора Иоанновича! Мимо таких-то хоронить покойника в домовине пронесёшь, проездное стребуют.
— Ежели то дары, должон быть тархан на вольный провоз, — упирался древнерусский таможенник.
— От-те мой тархан! — Афанасий поднёс к его лицу изрядных размеров кулак и, взявшись за саблю, сообщил: — Коли станешь упорствовать в лихоимстве, я те и ярлык покажу.
После нескольких минут препирательств представители налоговой администрации удалились, пообещав написать жалобу в Москву.
Вечером на общем ужине Ждан предложил отпустить телеги и продолжить дальнейший путь по воде, обещая более быстрое прибытие в Углич. Совет был признан весьма дельным, и следующим утром воспитатель отправился в рыбачью слободу договариваться о провозе. Сговорился он довольно быстро, несмотря на то, что в воскресный день работать местный люд не любил. Уже к обеду к нашему лагерю стали прибывать лодки, на которые угличские дворяне стали перегружать с возов серебро и товары.
Выглядели речные корабли совсем неприглядно, видом они более походили на плоты с надставленными дощатыми просмолёнными бортами.
Я попытался изложить свои подозрения насчёт надёжности этих плавсредств Ждану, но тот отмахнулся:
— Ить их рыбари в Угличе на дрова распродадут, лучшие челны никто и не даст в дальний путь. Помилует Господь — не потонем.
Отряд разделился, и часть нашей группы с несколькими стрельцами пошла к удельному городу верхом, ведя с собой всех лошадей, остальные погрузились в дощаники. Путь через озеро занял почти пару часов, и всё это время я с тревогой осматривал горизонт, ожидая ухудшения погоды и бури. Передвигались лодки с помощью шестов, которыми отталкивались от дна рыбаки. По входе в вытекающую из Плещеева озера реку скорость передвижения значительно усилилась. Этот быстрый поток втекал в очередное лесное озерцо, по входе в которое мы попали под изрядный дождь. Спустя несколько минут после того, как мы пристали к берегу, началась гроза.
Люди стали искать укрытия под огромными дубами, стоявшими на невысоких прибрежных холмиках. Вспомнив с детства вбиваемые правила поведения при таких обстоятельствах, я начал кричать и пытаться увести народ на открытое пространство. Слушать меня особо никто не хотел, но и бросить своего князя не позволяло чувство долга, и дворяне, а вслед за ними и стрельцы засели вслед за мной в ложбинке, попеременно молясь и ругаясь. Предосторожность оказалась совсем не лишней, стоявшее на возвышенности дерево в нескольких десятках метров от нас поразило разрядом электричества.