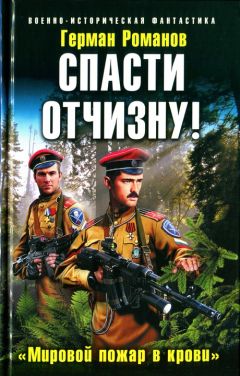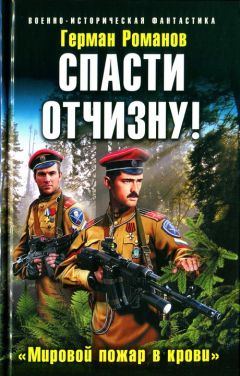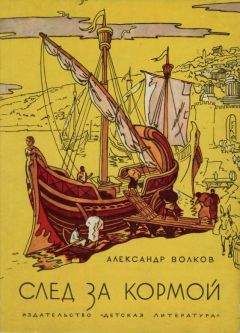Нам приносят заказное — и она буквально набрасывается на еду. Она все так делает — очертя голову. Ест, дружит, любит.
Наверное, за это я ее и люблю. Полная противоположность мне, опасная как ядовитая змея. Это и есть ее псевдоним. Наас, змея.
— Вкусно… — говорит она с набитым ртом. Я бросаю время от времени в рот мясной шарик, задумчиво смотрю на нее.
— Что так смотришь? Мне не по себе — вдруг говорит она, и перестает есть.
— Да так. Ничего.
Она вдруг кладет вилку
— Знаешь… Ты помнишь полковника Салефа? Он погиб в прошлом году.
— Помню.
— Он сказал, что ты иногда смотришь как колдун. Проникаешь взглядом в душу. Читаешь мысли людей.
Да уж…
— Знаешь… неожиданно даже для себя самого говорю я — у меня контракт заканчивается. Вот думаю, продлять или нет.
Она вскидывает брови, искусно подведенные тушью.
— Почему бы и нет?
— Здесь могут убить. Запросто. И тебя тоже.
— Боишься? Не знала, что ты можешь бояться.
— Дело не в этом.
— А чем?
Она снова начинает поглощать куку
— Если я уеду — поедешь со мной? В Россию.
— В Россию?
До нее вдруг доходит, она медленно кладет вилку. Ее глаза — свет из-за спины — как две черные дыры, втягивающие все живое.
— Это что… — говорит она — предложение?
— Да.
Она молчит. И я молчу, досадуя на себя за такую глупость. Нет, я все-таки полный, полнейший идиот. Зачем я ей нужен? Она же вольная птица. И ее все устраивает — просто со мной ей можно быть самой собой.
— Но я… мусульманка.
— Плевать.
Она молчит. Потом накрывает мою руку своей. Если рванет машина, если в зал войдет урод с Калашом — я не замечу
— Мне… знаешь, это первый раз, когда мне делают предложение. Первый раз.
— Все бывает в первый раз. Итак?
Она смотрит на меня. Слезы — скапливаются в уголках глаз подобно алмазам — чтобы упасть и растаять без следа
— Ты же… знаешь, кто я
— А ты знаешь, кто я. Я веду войну уже двадцать лет. Как ты думаешь, сколько людей я убил за это время?
…
— Когда-то это все надо прекратить. И тебе и мне. Знаешь… я думаю, что Бог на самом деле един, и неважно, кто и как его называет. И я думаю, что мы не для этого родились. Пока закончить нашу войну. И дать этому миру хоть что-то хорошее.
— Я тебе благодарна, правда…
Я встаю
— Не продолжай.
— Нет, подожди…
Она вцепляется мне в руку — до крови.
— Не надо.
— Нет надо. Послушай — она смотрит прямо на меня — я… это не мое решение, но я сейчас не могу.
— Все зависит от нас. Нет судьбы кроме той, которую мы творим.
Она грустно улыбается
— Есть. Ты руси, ты не знаешь, что это такое. Вы живете не так как мы. У меня есть семья, есть родственники. Если они не смогут отомстить мне — они смогут отомстить им. У нас так делается. И я не смогу жить после этого.
— Кто отомстит. Что им нужно? Денег? Я дам. Если надо — я убью каждого из них. Любого, кто встанет на пути.
— Не надо. Ты… действительно этого хочешь?
— Черт возьми, а ты этого еще не поняла?!
На нас уже смотрят.
— Я… поняла. Но есть то, что я должна закончить. Как только я закончу… если ты не передумаешь…
— Передумаю?!
— Если ты не передумаешь… я тоже люблю тебя. Пусть ты не мусульманин, и не палестинец, а руси…
Я отпихиваю от себя тарелку.
— Да какая разница… Мусульманин, русский… Надо прекращать все это, понимаешь? Кто-то должен все это прекратить. Иначе никто не остается в живых. Никто.
Никто…
Утренний свет — струйкой меда сочится в окно, с соседнего минарета — мулла выпевает азан, зовя правоверных совершить намаз. Окно — забрано мелкой, особо устойчивой сеткой — на нем рванут даже граната, выпущенная из РПГ. Я лениво вслушиваюсь в мелодичный перелив азана, проложенная светом дорожка к окну — как путь к Аллаху…
Амани прихорашивается у зеркала, само зеркало треснуто. Я много раз говорил, что треснутое зеркало к несчастью, его надо убрать — но она не слушает. Говорит, что это зеркало с ней с Сирии и останется с ней навсегда. В таком свете ее кожа кажется почти черной. Просто поразительно, насколько раскованными на самом деле становятся правоверные мусульманки, стоит им только снять паранджу. У нас такого нет, у нас — голимый цинизм и глаза — как сканер штрих-кода. Главное — хорошо сняться в пятницу вечером на дискотеке.
Я посмотрел в ее глаза, и с ужасом увидел в них — секс, ЗАГС, двоих детей, пятнадцать лет ипотечного кредита и стиральную машину Аристон…
Она оборачивается
— Проснулся?
— Ага. Кофе хочу.
— Хочешь — иди и приготовь.
Это тоже — наша обычная пикировка. Приготовить кофе — ее не заставишь, она видит в этом мужской шовинизм и угнетение женщин. И за это я ее тоже люблю.
Мы в самом центре Садр-Сити. Городе в городе, куда ни один американец так и не смог пройти. Здесь никогда не было ни одной зачистки — американцы просто не хотели связываться. Блок-посты и базы были только по периметру. Только вертолеты и работали по району — вертолеты да БПЛА, лишь множа ненависть.
Ползу на кухню, вымотанный до предела. Ставлю на газовую плиту сковородку, там уже насыпан чистый белый песок с озер — кофе нужно варить именно так, а не так как варят в России — на газу или в кофе-машине. Из окна кухни — виден небольшой дворик, соседний дом разрисован граффити до второго этажа, разбираю только автомат, и надпись — смерть предателям. Чуть в стороне — довольно точная копия портрета Имама Али, четвертого имама мусульманской уммы, убитого здесь, на земле Междуречья в бою под Кербелой вместе со своими сторонниками. С тех пор — идет непримиримый раскол между Шия Али, партией Али, то есть шиитами — и суннитами, то есть теми, кто выбрал нового имама и забыл про свершившуюся трагедию. Уже пролилось Бог знает сколько крови — и только Сатана знает, сколько еще прольется. Несмотря на то, что это произошло четырнадцать веков назад — для своих сторонников Имам Али как живой, он зовет их на баррикады, под пули и ракеты, в сражение, его кровь вопиет об отмщении. Здесь никто по-настоящему не умирает — и волей — неволей соглашаешься с постулатом Корана, что те, кто стал шахидом, те, кто отдал жизнь за ислам, за шариат, на распространение мусульманской веры — не умерли, они живы. Да, они на самом деле живы, и правдивость этих слов понимаешь только здесь, на узких улочках старых восточных городов. Они и в самом деле с нами — Бен Ладен, Завахири, Намангани, аль-Банна, старший аятолла ас-Садр. Повешенные, зарезанные, забитые до смерти, взорванные ракетой с беспилотника, тайно убитые в тюрьмах — они присутствуют с нами, в нашем обжитом пространстве, они смотрят на нас с плакатов на стенах домов, с неумелых рисунков, с прилавков торговцев, где их проповеди продаются наравне с Майн Кампф, книгами о любви и дисками с индийским кино. Они все время смотрят на тебя, и их глаза говорят — будь как мы, действуй как мы, отдай жизнь за ислам — и ты станешь бессмертным. Многие на это поддаются…