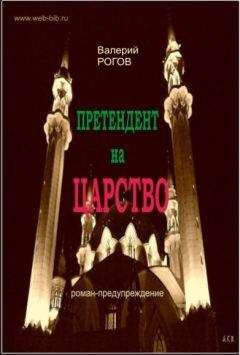Он вытащил из кармана своей болотной, клетчатой куртки, в какую, похоже, был одет доктор Ватсон в известном телефильме, мобильный телефон, настучал цифирьки:
«Слушай, Миш, Мухаммед Арсаныч, — подобострастно заговорил Силкин, — тут такое дело, понимаешь: этот хмырь чё-то про нас знает. У него пеленгатор. Запеленговал, падла, и ждёт подмогу. Подъезжай, а? Разберись сам… Ладненько! Будь сделано!»
— Так бы сразу, Семён Иванович, — заметил я вполне удовлетворённо, не обратив внимания на очередное оскорбление. — А знаю я Ордыбьева ещё со времён, когда он секретарём райкома партии работал, а вы, ваше нынешнее сиятельство, числились у него в помощниках. Правда, затем он вас в управделами выдвинул, но недолго вам удалось попользоваться властью.
— Ты, чё, следователь? — мрачно спросил Силкин, уперев в меня свои слюденистые, немигающие глаза. — Ты, чё, по доносу? Надьки Ловчевой? А ведь в точь! Как пить дать! — обрадовался он. — Н-ну, даёт! Вот ведь сука рваная, сама подохла, а проверяльщики до сих пор ездют! Чё ж она из-под земли, что ли, письма шлёт, га-га?!
В тон ему подобострастно гагакнули два его обалдуя, а квадратный, кабаноподобный Ромка, поспешил, угодничая, добавить гадливую гнусность: «С червями, бля, в конверте, га-га…».
— Точно! — подхватил сиятельство, — скелетом скачет по домам! Почтальонша, бляха-муха! С червями могильными в конвертах, га-га…
— Не боитесь, что и к вам заявится? — вставил я. Кощунственная гнусность меня возмущала. — Ещё бы и клюкой добавила вам по лбам. Чтобы дурь вышибить.
— А нам страшилки нипочём! — взвизгнул угодливый Ромка.
— Ага, нипочём! — вскричал и граф. — Мы ни в Бога, ни в чёрта не верим, га-га…
— А ведь вы, Семён Иванович, на одной парте сидели с Надеждой Дмитриевной. В юности увивались за ней, жениться мечтали. Только она вам отказала. А для вашей матери всю жизнь вроде дочери была. Не стыдно кощунствовать?
И опять эти трое оцепенело таращили на меня зенки, ничего не понимая: откуда такое-то могу знать? А в Силкине недоумение переходило в едва сдерживаемую ненависть. Он готов был не то что разрядить свой экзотический пистолет мне в грудь, или в лицо, но прямо-таки зубами загрызть, разорвать в клочья, как его кровожадные псы. Однако сдержался, прошипел лишь:
— Компромат надыбливаешь, с-сыщик? Торговаться прибыл? Да я тебя, если Арсаныч дозволит, не то что на три метра, а попервоначалу на дыбе испытаю, а потом на костре поджарю, собакам ещё живого скормлю, понял? Ну, погоди, — угрожал он, — вот подъедет Арсаныч, я уговорю его, а он крут, ох, как крут! Не сдобровать тебе, уж поверь, я тебя винтом закручу, в трубу засуну, вниз головой на муравейник поставлю! По-азиатски прикончу, как Чингисхан, понял?
Именно в этот момент, когда я должен был ужаснуться возможной жуткой казни — по-азиатски, хуже, чем в аду, — на Княжеском взгорье, где когда-то стоял белый усадебный дом с шестью колонами, открытый на весь окский окоём, — да, именно при самых страшных угрозах Силкина на блёском, глянцевом просёлке показался чёрный лимузин. Он нёсся стремительно, будто на пожар. Через три минуты резко затормозил, качнувшись, метрах в ста от нас. Побледневший, сразу вроде бы осунувшийся «граф» подобострастно затрусил вперевалку, в самом деле, как разъевшаяся баба, к истинному хозяину нынешних Гольцов.
Из чёрного лимузина с непроницаемыми стёклами никто не выходил и, прямо скажу, я вновь ощутил неподдельный, липкий страх и очень даже пожалел, что затеял эту, в общем-то, совсем ненужную историю. Опять само собой шепталось: «Господи, спаси и помилуй… Неужели допустишь… Неужели не спасёшь…» Перед моим мысленным взором вновь возник иконный лик Христа, печальный и ласковый, внушая, что страшиться мне нечего.
Но всё же, всё же…
Разве мог я чувствовать себя в безопасности в окружении новых мафиозных владельцев голицынского поместья, уже сведших в могилу Надежду Ловчеву, не отступившую перед их хищным натиском? Вот и объяснение, подумалось горько, фанерки на калитке палисада — «Дом НЕ продаётся!» Видимо, дочь выполняет последнюю волю усопшей.
III
Прирождённый мерзавец Семён Силкин…
Хотя отчего ему быть «прирождённым»? Ведь его мать Дарья Фёдоровна являла собой достойную, добропорядочную женщину, эталон сельской учительницы. Из тех, кого воспринимают подвижницами, особенно на ниве народного просвещения.
Мне вспомнилось, как яростно спорил Вячеслав Счастливов, доказывая, что понятие прирождённости или врождённости, возникает не из родовых корней, а опосредственно, отражая знаковость поступков, которые диктуются эпохой, социальной средой, проще говоря, самим Временем! Я не очень-то с ним соглашался, утверждая известную формулу, приведённую Иваном Алексеевичем Буниным в «Окаянных днях», что дубина и икона — из одного дерева! Мы спорили долго, пока наконец не сошлись на той черте, которая многое объяснила, — на широко распространённой шаткости русской натуры. Эта смысловая подвижность, оправдательная вольница всегда и во всём доводит русского человека до крайности — или до святости, или до злодейства, а часто и до того, и до другого.
Наш спор на этом не закончился. Вячеслав, который тогда работал над очерком «Первый коммунар» — о деде Семёна Силкина, взялся разобраться в житейской конкретике матери-подвижницы и сына-отступника, чтобы убедительно выявить отсутствие врождённости в проявлениях добра и зла. Однако мне это не показалось доказуемым. Ну, ведь правда — из одного дерева и икона, и дубина, ан нет, выходило всё же, что именно Время совершает работу, решая каковы наши судьбы, каковыми нам быть…
Дарья Фёдоровна после войны оставалась единственной в Гольцах из рода Чесенковых. Её отец, Фёдор Филиппович, земский доктор, выпестовавший Гольцовскую больницу, после революции подвергался гонениям, в середине двадцатых годов был репрессирован, сослан на Соловки, где и погиб. По характеру она продолжала его линию: мягкая, жалостливая, а в своём подвижничестве — неутомимая. Кстати, полная противоположность собственной матери, Ольге Герасимовне Фионовой, так и не взявшей фамилию мужа, потому что доктор Чесенков постоянно был на подозрении у Советской власти как пособник контрреволюции, обвиняемый даже в гибели первого коммунара. Хотя Ольга Герасимовна оставалась всего лишь фельдшером, однако сумела наследовать Гольцовскую больницу после ареста мужа. Это произошло по той причине, что она публично и письменно отреклась от него. Похвальный поступок оценили органы ОГПУ и даже поощрили её — не стали возражать против её заочного обучения на медицинских курсах. В дальнейшем Ольга Герасимовна Фионова даже добилась правительственной награды — ордена «Знак Почёта».
Женщина целеустремлённая, неотступная, всегда знающая, что и ради чего необходимо делать, чтобы быть с теми, кто у власти и в силе. Её не волновали ни идейные, ни политические вопросы, тем более всяческие противоречия; она убеждённо подчинялась требованиям Времени, заботясь прежде всего о том, чтобы её дети — Дарья и Дмитрий, были на высоте положения, несмотря на соловецкое клеймо отца, на раскулачивание его старшего брата, Ивана Филипповича, сосланного вместе со всей многочисленной семьёй на Север, в необжитую тайгу.
Её неотступная лояльность властям отводила любые напасти. Но с повзрослевшими детьми ей не всегда было просто, особенно с сыном. Но он ей всё прощал. Отчего? А оттого, что мать вторично замуж не выходила, хотя предложений было немало. Она оставалась верной неуходящей памяти Хромого доктора. Так помнили в районе Фёдора Филипповича Чесенкова: за хромоту, но прежде всего за доброту, за ласковость, а главное за то, что он будто бы вылечивал от всех болезней. Эта народная легенда о Хромом докторе жива до сих пор.
Непреклонная и деспотичная Ольга Герасимовна Фионова своей властной рукой соединила судьбу дочери и комсомольского вожака Ивана Силкина, сына первого коммунара, рождённого после его гибели ссыльной учительницей, эсеркой Ефросиньей Князевой. По силе воли, по идейным убеждениям, по неотступности в делах и поступках Ефросинья Князева, между прочим, превосходила твёрдокаменную Ольгу Фионову, в чём та не стеснялась в открытую признаваться. Судьба её была трагическая: ещё при жизни Ленина она была расстреляна — в 1922 году, после знаменитого эсеровского процесса. Двухлетнего сиротку Ивана Силкина взял к себе и воспитал одноногий коммунар по прозвищу Пушкарь — бессменный председатель Гольцовского сельского совета…
Иван Силкин и Дарья Чесенкова любили друг друга, но, окончив педучилище в Городце Мещерском, разъехались учительствовать в разные концы района, и всё ведающая в человеческих делах, как сивилла, Ольга Герасимовна, не откладывая надолго, вновь и накрепко их соединила и, расписавшись, всю весну тысяча девятьсот сорок первого года они были небесно счастливы… Но уже летом их любовь трагически оборвалась: и сын их, Сёмушка, появился на свет после гибели отца, — как и сам его отец, — будто заклятье было на роду написано… Верной погибшему мужу, — как и её мать, Ольга Герасимовна Фионова, своему незабвенному Хромому доктору, — оставалась и Дарья Фёдоровна.