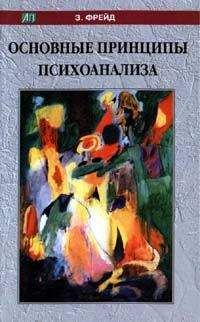— Шестнадцать тридцать!
— Три часа без малого.
Князев быстро поставил перед каждым ротным боевую задачу: кто командует, какими силами, ближайшая цель, последующая, какие силы и средства выделены в поддержку. Он действовал словно шахматист, совершающий ход всеми фигурами одновременно. Бойцы повиновались с охотой, хотя, догадывалась Саша, некоторые из них знали, что идут на верную смерть. Но если у кого были сомнения, тот не стеснялся их выражать.
— Как же мы заляжем в овраге? — спросил один из ротных. — Нет на карте никакого оврага!
— На карте нет, а там есть, — отвечал Князев. — А ложбину ту и ты видал. Мы мимо нее ехали.
— Чего ж ее на карте нет?
— А съемку делали ухари, вроде тебя! Которые смотрят, да не видят. А глядеть всегда надо с мыслью, что нам тут придется биться. Уяснил?
— Так точно, уяснил!
Дундук Белоусов, про которого Саша была уверена, что он дальше бумажек ничего не видит, объяснял одновременно десятку подбегающих к нему людей, где будут пункты боевого питания, куда вывозить раненых, где находиться резервам, а где обозу. Он держал в голове все, вплоть до расположения каждой сортирной ямы. Одновременно он вел записи — стенографировал, догадалась Саша, боевые приказы командира. Ни одно слово на этом холме не произносилось просто так. От каждого слова Князева зависели человеческие жизни. А также исход операции, что, конечно, гораздо важнее.
Громада оборонной промышленности, опутавший огромную страну спрут военной логистики, тонны документации, долгие месяцы гарнизонной рутины — все это существовало ради таких моментов. А исход их зависел от ума и воли одного человека, как игра целого оркестра зависит от дирижера.
К половине четвертого дело, казалось, было сделано. Уже свернулась и ушла в занятую деревню пулеметная команда. Белоусов приказал перебросить туда же обоз. Однако Князев все чаще и чаще поглядывал в сторону открытого левого фланга.
— Ни одного посыльного оттуда за все время, — сказал он обеспокоенно. Сохраняя контроль над ситуацией в целом, Князев поминутно подносил к глазам бинокль и потому первый поднял тревогу. — Ориентир двенадцать! Влево три-пятьдесят! Дальше — семьсот сажен. Пехота противника! Две... Отставить! Три ротные колонны!
— Вон из-за той прогалины прут, — пояснил Николай Иванович, не дожидаясь Сашиного вопроса. — Там наш кавалерийский эскадрон был. То ли отрезали наших, то ли сами они слишком далеко ушли налево. Так или иначе, на наш открытый левый фланг наступает без малого батальон. На кураже идут, быстро. Их надо сейчас же сбить с ноги, замедлить, заставить развернуться в цепь. Если они доберутся до штыка и сомнут то немногое, что тут у нас осталось, возьмут пушки и обоз, а потом закрепятся – дело будет худо.
— Белоусов! — командовал Князев. — В деревню, бери вторую и третью роты да по два пулемета на каждую, займи оборону фронтом на юг, на той опушке! Хутор не занимай.
С неожиданной для его массивной комплекции легкостью Князев поднялся в седло. Выехал к стоявшей на проселке резервной роте и скомандовал:
— Рота! Колоннами, повзводно справа! За мной, бегом марш.
Саша взяла под уздцы свою кобылку. За прошедшие недели она выучилась худо-бедно держаться в седле. Князев краем глаза заметил это движение и обернулся к Саше:
— Остаешься здесь!
Саша сникла. Комиссару следовало быть там, где люди шли на смерть. Но Князев согласился взять ее в бой только после того, как она дала слово выполнять все его приказы. “Тут, в полку, мы обо всем с тобой договариваемся. Но там, в бою — прикажу стоять, залечь, да хоть чечетку сплясать — выполняешь без пререканий, уяснила, комиссар?”
Николай Иванович протянул бинокль. Саша в очередной раз попыталась встать так, чтоб на нее поминутно не натыкались занятые делом люди. Поднесла бинокль к глазам, стала смотреть вслед уходящим.
Проскакав порядка трех сотен шагов навстречу противнику, Князев спешился и, раскинув руки в стороны, вполоборота что-то кричал бегущим следом красноармейцам. Взводные колонны разбегались по обе стороны от него, разворачиваясь в боевой порядок — в цепь.
Какая, в сущности, разница, подумала Саша, кто он и что он вне боя. Пусть хоть Кропоткина конспектирует, хоть каждый вечер в хлам напивается, хоть каждую неделю комиссаров у обочины закапывает. Только бы он продолжал воевать, и воевать за Советы.
— Ложи-ись!
Прежде чем Саша успела что-то сообразить, Николай Иванович толкнул ее в утоптанный снег и сам упал рядом. Только после этого накатила волна грохота.
— Все, комиссар, можно вставать, — Николай Иванович подал Саше руку.
— Что это было? — спросила она, отряхивая шинель от снега.
— Чемодан это был. Хорошо, далеко рванул, с полверсты отсюда. А не то орали б сейчас друг другу и все равно б не слышали ничего. Но шальной осколок мог и долететь, хорошего мало.
— А что там горит? — спросила Саша, поднося к глазам бинокль.
— Хутор там есть. То есть уже, наверно, был хутор…
— Они обстреливают хутор? Зачем? Разве там наши были?
— Решили, видать, что там штаб наш. Я и сам думал, там штабом встанем. Обзор на мост оттуда хороший был, не пришлось бы разведкоманду гонять. Но командир предусмотрел, что это место самое подходящее и потому самое очевидное. Так что разве вот семью, что там жила, паскуды эти положили.
Саша пыталась разглядеть что-то в бинокль. Там, где только что стоял аккуратный хутор, все было затянуто дымом. Вот горит дом, а там, наверно, сарай. Бежит, сметая все на своем пути, горящая корова. А там... горящий человек? Криков не слышно было, все звуки тонули в отдаленном артиллерийском грохоте. И ветер дул в другую сторону, потому ни дым, ни запах сюда не доносились.
Подбежал запыхавшийся боец.
— Иваныч, снаряды погрузить надо, помоги разобраться с маркировками, там черт ногу сломит!
— Вы стойте здесь, Александра Иосифовна, — засуетился Николай Иванович. Саша рассеянно кивнула. Подышала на запотевшее стекло бинокля, протерла варежкой. Стало, кажется, только хуже видно. Но Саша продолжала вглядываться в пожарище, как зачарованная.
Словно это был совсем другой город, занесенный не снегом — сливовым цветом. Белые лепестки кружились в воздушных вихрях и грациозно опускались в огонь, в лужи крови, на истерзанные человеческие тела. И когда Саша разглядела в бинокль бегущего к хутору мальчика, она перестала быть здесь и оказалась — там, в Белостоке, в недоброй памяти июне девятьсот шестого года.
Потом говорили, что комиссар храбрая, раз побежала под артиллерийский обстрел. Но правда в том, что она не думала ни про какой обстрел в этот момент.
Говорили, что комиссар добрая, раз бросилась спасать ребенка, которого никогда раньше не видела. Люди умирали в революции, и дети тоже умирали — обычно не на передовой и не в расстрельных подвалах, но Саша знала, что таково естественное следствие войны. Если бы она принимала решение, она бы осталась там, где ей было приказано остаться.
Говорили, что комиссар иногда не в себе. И это было ближе всего к правде. Она не вспомнила, что если ее сейчас убьют, Князев не отмоется и дело Советов будет поставлено под удар. Она не слышала криков “сто-ой, куда!” Она просто обнаружила себя бегущей вниз, к горящему хутору.
Тогда, двенадцать лет назад, она бежала по охваченному погромом городу, уворачиваясь от горящих балок, от летящих в нее камней, от тянущихся к ее телу жадных рук. Перепрыгивая лужи… масла, вина, крови? Сквозь крики и пьяный смех, сквозь вездесущие лепестки сливы она бежала по улицам, на которых прошла вся ее жизнь, к месту, которое не было больше ее домом, которое не могло уже быть ничьим домом...
Теперь она бежала вниз по холму. Саша никогда не была особенно сильной или ловкой, но в такие моменты — откуда что бралось. Она скользила на заснеженном склоне и использовала энергию этого скольжения, чтобы ускориться. Она спотыкалась на скрытых под снегом корягах, падала и перекатывалась по земле, чтоб вскочить на ноги чуть ближе к цели. Шапка потерялась во время одного из падений, волосы разметались и зацепились за кривые доски забора, когда Саша протискивалась между ними. Не чувствуя боли, не чувствуя страха, она рванулась и высвободилась, оставив плетню несколько длинных прядей.