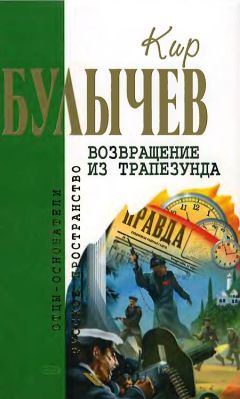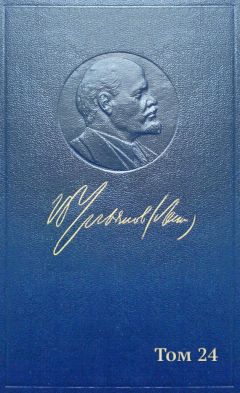За пределами Крыма у Коли почти не было близких людей. Сестра его маялась в Симферополе, бывшая подруга Марго исчезла, не писала, не подавала о себе вестей, на Ахмета и Андрея надежды мало — детская дружба себя изжила. Пожалуй, оставалась одна верная женщина — Раиса, у которой Коля снимал комнату…
Коля мучился, рождая и отвергая планы бегства на север. Он готов был для этого даже стать возлюбленным своей покровительницы, но не знал, как к ней подступиться.
Казалось, что за много лет, проведенных в подполье или в ссылке, Нина принимала все меры, чтобы изжить из себя женское начало, так мешавшее в совместных боевых и политических действиях с товарищами-мужчинами. Она коротко, под горшок, стригла прямые черные волосы, обходилась без лифа — благо груди ее были невелики и неочевидны, туфли носила без каблуков и никогда их не чистила, одевалась бесполо и безлико.
Намеки, понятные любой шестикласснице, для Нины были бессмысленны, так как она, вступив в партию шестнадцати лет и будучи при том всегда некрасива (иначе бы, наверное, и не поступила в партию), не получила положенной средней гимназистке любовной муштры. Даже о том, что деторождение связано с любовными отношениями мужчин и женщин, она узнала лишь в тюрьме на первой своей пересылке.
Думая о Коле, она признавалась себе, что Берестов ей приятен как человек и перспективен как партийный работник. Она даже как-то говорила Диме Ульянову, что поощряет приход в партию молодых людей из интеллигентных семей, потому что после взятия власти нужны будут специалисты, а не только солдаты. Дмитрий Ильич стал с ней спорить, утверждая, что перебор непролетарского элемента в партии может ее ослабить и бюрократизировать, чему есть немало примеров в истории.
Впрочем, испытывая удовольствие от близкого присутствия Коли, находя смысл и пользу в разговорах с ним, Нина Островская и не подозревала, что руководствуется чем-то иным, нежели заботой о деле партии.
Так что когда Островская отправилась к Василию Васильевичу, чтобы экипироваться на складе для поездки в столицу, она и не подозревала, что делает это в значительной степени из-за своего молодого спутника, который все не решался попроситься в Петербург. Наконец Коля, отказавшийся от надежды соблазнить начальницу большевиков, за несколько дней до отъезда бросился к Островской с просьбой взять его с собой: он хочет быть в центре революции — его место там! И к крайнему удивлению Коли Островская лукаво улыбнулась и ответила:
— Я уже говорила об этом с Гавеном. Он тоже так думает.
Так был решен вопрос о поездке. Коля вырвался из постылого Севастополя и получил возможность увидеть Нину Островскую в женском обличье.
* * *
В киевской гостинице «Националю» они с Колей остановились в соседних номерах, небольших, приличных, ничем не выдающихся, хотя, конечно же, пожелай того Островская, ей бы выдали «люкс, Но Островская была, как и прежде, скромна и непритязательна. Ее можно было купить властью, но не деньгами. Да и как купишь человека, который знает, что может получить вдесятеро больше, чем имеет, стоит лишь пошевелить пальцем, но не делает этого движения, потому что презирает мелочи жизни. Такого рода революционеры первого поколения всегда становятся и не нужны, и опасны диктатору, которого обязательно рождает революция. Диктатору нужны подчиненные, которых можно купить, продать и помиловать. Как ты будешь миловать Островскую или Бош, если для них единственный судья — партийная совесть?
Их следует обязательно уничтожать — впрочем, так и случается, иначе они примутся судить товарищей по партии, так как они и есть — Партия.
Евгения Бош приехала к Нине, как только узнала, что та проездом в Киеве, Они не виделись четыре года, расставшись в ссылке в Туруханском крае, где жилось хоть и трудно, но весело, в спорах, планах, мечтах о свободе мя себя и России.
Там Нина подружилась с Яшей Свердловым, познакомилась с Сосо Джугашвили и некоторыми знаменитыми меньшевиками.
— Какое чудо, Женя, что ты здесь! — говорила Островская, проводя подругу в номер.
Там с чайником в руке стоял Коля Беккер.
Нина поспешила представить спутника:
— Андрей Берестов. Наш товарищ из Севастополя. Сопровождает меня в Питер.
— Очень рада. — Ладонь товарища Бош была холодной, узкой и крепкой.
Эта женщина показалась Коле очень похожей на Нину, хотя, пожалуй, сходство это было весьма поверхностным. Лицо Нины было крупнее чертами и резче, что порой придавало ей сходство с вороной, тогда как Бош была куда изящнее, детали лица были мелкими, но четкими и как бы лишенными мяса, Потому так трудно было бы угадать ее возраст. От тридцати до пятидесяти…
Бош критически обозрела Колю.
— Моряк? — спросила она.
— Морской офицер, — ответила за Колю Островская.
— Давно в партии? — Что-то не нравилось Евгении Бош в Коле, что-то тревожило.
— Давайте сядем за стол, — предложила Нина. — В ногах правды нет. Раздевайся.
Раздевайся и поговорим. Ты же не спешишь?
— Конечно, спешу, — сухо улыбнулась Боги, но скинула шинель. Коля успел ей на помощь и повесил шинель в стенной шкаф.
— У нас нечего выпить, — сказала Нина.
— Я не пью, — ответила Бош с очевидным укором в голосе.
— Прости. — Нина суетилась чуть-чуть больше, чем нужно. Она как бы давала понять, что стоит на ступеньку ниже на партийной лестнице, чем гостья, впрочем, кроме Коли, никто этих тонкостей не заметил. А Коля понимал, что его присутствие мешает откровенному разговору старых подруг, и потому сказал, что ему нужно отлучиться, и его никто не задерживал.
Подруги в соседнем номере чуть отмякли, подобрели у уютно шумевшего самовара, крепкий чай с бубликами и колотым сахаром напомнил счастливые мирные дни ссылки, когда можно было мечтать о будущей погоде, о том, как царские сатрапы, от министра до станового пристава, следящего за ссыльными, послушно опустятся на колени перед виселицами.
Жизнь, обрубленная, словно дерево без веток — одно бревно, — рождала особенный ущербный тип человека — мир настолько четко делился на своих и чужих, что чужие становились не людьми, а некими существами, которых требуется уничтожать и гнать.
И не испытывать чувства зависти. Как схоже, бывало, тащили на костер еретиков и ведьм монахи, лишенные любовного чувства. Главное — убедить себя, что твои враги, оппоненты, не более как препятствия на пути народа к высокой цели, сродни фантомам.
Неудивительно, что в начале разговора не было сказано ни слова о родных — в беседе старых партийных товарищей той поры не услышишь пожеланий здоровья маме и папе, впрочем, чаще всего ты и не знал, кто родители у твоего товарища. Отец Софьи Перовской был губернатором, отец Троцкого — богатым арендатором, отец Ульянова — штатским генералом, отец Джугашвили — сапожником. Отцы приговаривались к забвению. Товарищ по партии, член секты был ближе родителей.