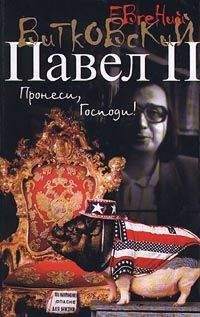— А что это я там слышала такое, будто царь не умер вовсе, а бороду отрастил и в старцы подался?
Слова эти неожиданно вызвали у Керзона приступ хохота, постепенно перешедшего в кашель, а по окончании кашля — в злобное хихиканье.
— Ой, золотая ты моя девочка, знала бы ты только, чья это брехня, срам рассказывать, великого русского, так сказать, писателя, графа Льва Толстого! Знаешь, анекдот есть, как входит к нему лакей, кланяется и говорит: «Пахать подано!» Вот так и тут вот — пахать… Это ему, графу, добрый царь нужен был! Чтобы хоть задним числом он добрый был! Нет, все это, девочка ты моя золотая, доподлинная графская брехня. — Внезапно посерьезнев, старик переменил тон. Есть, впрочем, косвенные свидетельства того, что легенду эту он не сам выдумал. Как раз вот к примеру хотя бы даже Пушкина возьмем, он этой самой историей тоже интересовался. Но тоже, сомнений не может быть, только из тех соображений, что любой повод посеять в умах мысль о незаконности правления Николая — само по себе уже большое благо. Он ведь куда как прозорлив был, родной наш Александр Сергеевич! В переписке Иллариона Скоробогатова с Натальей Свибловой — знаешь, там, где я нашел упоминание, какое приятное лицо было у Ланского… — Софью как током ударило, эти фамилии она знала слишком хорошо, пусть имена к ним на этот раз были добавлены неизвестные, — там есть упоминание, что брат Натальи, он в монахах служил, этому самому Федору Кузьмину некоторые книги посылал, «Евгения Онегина» в том числе. Я об этом писал в одной статье, но мне это сократили. Какое же нужно еще доказательство, что старец этот самый, какой он ни на есть жулик, а может быть и вполне честный человек, только тронутый, — никак не мог быть Александром Первым? Хоть в те времена десятой главы еще никто не читал, знаешь, как там
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда…
Эти строки Софья знала даже слишком хорошо, но не говорить же об этом старику, который тем временем продолжал монолог:
— Но ведь и в других главах все же ясно сказано! Да и вообще какое было дело русским царям до русской литературы, разве только в том смысле, чтоб ее удушить, искалечить, кастрировать, обескровить, обессолить! Стал бы этот Александр читать Пушкина на старости лет, как же… Он, до таких лет доживи, он «Майн Кампф» бы читал, ничего больше! — с пророческим пылом закончил Соломон.
— А кто это такая Наталья Скоробогатова? — спросила Софья, не моргнув глазом.
— Была такая… Тоже, как Наталию Николаевну, Наталией Николаевной ее звали. Дочка героя Бородинского сражения, хоть о нем самом мало что известно. Вот были бы у нас серьезные ученые, так о нем бы сейчас две-три монографии, уж не меньше, изданы были бы. А там — где нам. Еле фамилию знаем, что ноги в сражении потерял, что потом двух дочерей прижил — и все. Вот эта самая Наталия, она, есть сведения, на первый бал выезжая в Петербурге, с Пушкиным танцевала. Об этом Греч еще в одном письме пишет, срам рассказать, мол, Пушкин, старый — Соломон поперхнулся от гнева — кобель, опять к девочке какой-то липнет. Вот я и копнул, где мог, улов небогатый был, но все же кое-что насчет Ланского поймал, ведь он с той же самой Натальей танцевал на том же балу. Значит — Пушкин и Ланской были в одной зале! Да ты читала об этом, наверное, я писал. Правда, там многое вырезано…
— А вторая сестра? У Скоробогатова дочерей две было, вы сказали?
— Да… В самом деле. Я как-то упустил. — Соломон в растерянности поморгал. — Ты молодец, девочка, у тебя врожденный талант. Как же я другую сестру упустил? Вот ведь дурак старый, даже архивы не пытался поднять по этой линии. Помню, что они погодки, девочки-то, были, а вот которая старше… Анастасия! Ведь Пушкин мог и с ней на другом балу танцевать! — Старик перегнулся через стол и быстро-быстро настрочил что-то на четвертушке бумаги. — Да, Софонька, талант у тебя к пушкинистике прирожденный! Непременно надо будет проверить!
Дальше разговор на сестрах Скоробогатовых задерживать было опасно, ибо старик, со всем своим архивным рвением взявшись за Анастасию, мог нечаянно откопать и ее церковный брак, а в том, что прапрадед венчался под настоящим именем, пусть без указания титула, Софья не сомневалась. Оставалось уповать, что у дяди до этой темы в ближайшее время руки не дойдут. Поговорили еще о том о сем. Софья взяла со стола приготовленную стопку книг о декабристах и, конечно, о Пушкине, хотя таковых не заказывала, поцеловала дядю возле дверей и прочь пошла. Во дворе так же резались в домино старики, и совсем молодой дворник какой-то восточной расы сгребал в кучу палые листья. Соломон, глядевший из окна, заметил, что, как только Софья вышла из ворот, один из стариков, хорошо Соломону известный, передал коробочку с «костями» стоявшему за его спиной такому же мшистому деду, и ужом скользнул в парадное.
«Донос побежал на меня строчить, дурак набитый», — усмехнулся про себя Керзон. От сознания того, что на него кто-то и теперь доносы пишет, а они действия не оказывают ввиду его, Соломоновой, чистоты в глазах бывших семинаристов, чувствовал себя пушкинист как-то еще моложе, стройнее, бодрее, напористей. «Пиши, пиши. Надо будет попросить, чтобы почитать дали. Ошибки делаешь поди».
Соломон не ошибался: как раз сегодня Степан Садко собирался написать очередной донос — не только на него, на Керзона, но и на многих других лиц, об этом Керзон уже не имел представления. Дело в том, что не доносы писал Степан, а слал шпионские донесения маньчжурскому правительству.
В молодости был Степан Садко простым советским столяром-краснодеревщиком, женился в тридцать пятом году, в партию вступил в тридцать восьмом, хорошая была жизнь, молодая, — дочка росла папе на радость, и жена у Степана была жаркая, сладкая, Тиной звали. Все было. А пришел тридцать девятый год, сентябрь месяц — сразу ничего не стало. Стукнул на него сосед по квартире, Макар, что с Тиной все выспаться хотел. И загремел Степан по статье пятьдесят восьмой, по куче пунктов, как маньчжурский шпион, еще, впрочем, и как литовский, и как эстонский, хоть и государства эти почти сразу приказали долго жить; да и Маньчжоу-Ди-Го в сорок пятом тоже с карты мира исчезла — а Степан все гремел да гремел по пересылкам и командировкам той же самой карты мира от Уфы до проклятой Серпантинной, гремел шестнадцать лет с лишком, все забыл, что когда-то было, и Тину забыл почти, и дочку, но, скрежеща последними зубами и кулаки с каменной кожей стискивая, — хотел только одного: выйти да убить Макара. Но когда вышел он все-таки из лагеря, добрался до родного Свердловска, узнал, что женился совсем скоро после Степановой посадки проклятый Макар на Тине, про дочку уж и вовсе неизвестно ничего, и увез семью в неведомый город Белосток. А где его там искать в Белостоке, если город этот теперь обратно в Польше. Устроился Степан на работу вроде как бы по прежней специальности, спрос на нее как раз был, и работал две недели, а после узнал, что в соседнем цеху вкалывает третий человек из их довоенной квартиры, тогдашний мальчишка Сашка, а теперь вот мастер Сафонов. Ну, выпили они за встречу как в таких случаях быть следует, и узнал тогда Степан, что про Макарову женитьбу на Тине — все правда, а вот про город Белосток — все вранье, непонятно даже чье. Потому что в декабре того же сорокового вызвали Макара среди ночи в места обычные и прямо без церемоний сразу же расстреляли — притом именно как маньчжурского шпиона, кажись, даже настоящего. А жену его с чужим ребенком тьфу, каким чужим, а его же, Степановой, дочкой, — дели вовсе неизвестно куда. Такие вот дела. И тогда Степан умом тронулся. На Маньчжурской империи рехнулся.
Отвезли его в психическую, держали там одиннадцать месяцев, потому что бредил он там своим и чужим маньчжурским шпионажем, ничего про эту самую давно покойную Маньчжоу-Ди-Го толком не зная, кроме того, что есть где-то город Харбин, то ли столица Маньчжурии, то ли важный в ней какой город, и вот оттуда получает он, Степан, все время какие-то инструкции и наблюдения за всеми ведет очень важные. В начале пятьдесят восьмого года в больнице сменился главный врач, после появления какового выписали Степана как человека безвредного, лишнюю койку у больных отнимающего, и отправили на прежнее место работы, где ему — как-никак краснодеревщику высшей квалификации — выделили комнатку с отдельным со двора входом — получилась такая после перестройки дома. После лагерей стал Степан еще и совсем непьющим, а безумное его убеждение в шпионаже, которым он так усердно занят, он умело от всех таил, — так усердно, что даже политуру не пил. Но строго раз в две недели садился он у себя в конуре в старинное кресло к старинному столу, каковые из-за проеденности древоточцем выделили ему на новоселье, корявым почерком писал обо всем, о чем за истекший срок пронюхал, донос в город Харбин прямо маньчжурскому императору. Шел к почтовому ящику и бросал в него письмо с десятикопеечной маркой; с сортировочного пункта шло письмо напрямую на международный почтамт в Москву, а оттуда, по существовавшей договоренности, пересылалось автоматически в Министерство здравоохранения, где имелась заказная для него диспансером полочка: все его донесения на нее складывались и по первому требованию должны были передаваться в диспансер. Но вел себя отпущенный на волю Степан предельно тихо, на переосвидетельствование приходил по первому зову, — так что за все годы никто ничего из Минздрава в Свердловск и не запросил.