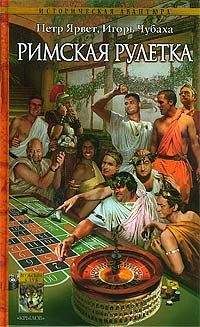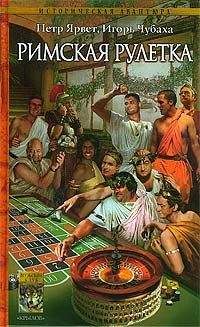— Поболтаем, — осторожно согласился Дмитрий Семипедис, — а вы умащайтесь, моститесь, умащивайтесь, короче говоря. Не беспокойтесь, я подожду.
Названный Геварием величественно двинулся во внутренние покои, но, остановившись на полдороге, тревожно огляделся:
— Только, ради Феба и Гименея легкокрылого, не подумай, что это мой дворец. Роскошь мы презираем, а это помещение предоставил нам на время для общего дела один патриций, преданный справедливости всей душой, но ныне пребывающий в отъезде.
— На Крите он пребывает, — уточнила Феминистия, дождавшись, когда шаги Гевария затихнут в мраморном лабиринте внутренних покоев дворца. — Сослали его на Крит. А друг Геварий всегда рад скупить чего-нибудь по дешевке на благо общего дела. Но поскольку он знаком с твоими работами о бессребреничестве…
— Не жалуешь ты что-то друга Гевария, — напрямик заметил Хромин, заглядывая в темные глаза матроны, словно ожидая увидеть в них продолговатые кошачьи зрачки.
Не вышло. Тонкая и гибкая Феминистия мгновенно отклонилась и пошла к фонтану. Окунула руку в голубую воду, подождала, когда рыбка подплывет, уставится на перламутровые ногти глупыми глазами.
— Я с ним сплю, — мрачно пояснила она, — и сплю не потому, что он так уж хорош собой, молод и горяч, а потому, что консул, замышляющий заговоры, рано или поздно может стать кесарем, это проверено. А, кроме того, в этом городе, — она метнула быстрый взгляд туда, где из оконного проема падал косой квадрат дневного солнца, — живут с полсотни мужчин, жаждущих моей смерти. И ни одного, слышишь, ни одного, кто желал бы меня саму: не денег, не влияния и не покровительства… Разумеется, я веду речь о людях благородных образованных и красноречивых, о таких римлянах, что даже на чужбине не теряют доблестного облика и даже становятся еще большими римлянами.
Пальчики с перламутровыми ноготками совершили молниеносное движение, и один из золотых карасей забился в изящной руке, впрочем, подумав секунду, Феминистия отпустила рыбешку и обернулась. Хромин стоял у окна, откуда било солнце, и, прищурясь, глядел на улицу.
— Силуэт… Белый силуэт… — бормотал он, словно пытаясь угадать за изящными очертаниями классических архитектурных силуэтов свою или хотя бы ее судьбу. Но напрасно матроне показалось, что ее не слушают. Стоило подойти неслышным шагом и коснуться плеча — честь, которая повергла бы к изящным ногам Феминистии любого из посетителей привилегированных лож Колизея (кроме самых погрязших в извращенной и кровосмесительной любви), — как хладнокровный философ произнес:
— Ну, спасибо на добром слове. Но, честно говоря, я не римлянин…
— Что ж ты, кельт, что ли? — расхохоталась молодая матрона. — Ладно, стандартные приемы с тобой не катят. Обычно надо ведь восхититься умом и талантом, и мужчина твой. Но я-то читала и другое твое сочинение, то, что на розовом пергаменте, да, Семипедис, не хмурь бровей так недоуменно. Хорошо понимаю, что кокетничать с тобой все равно, что ловить пчелу на мед. Хочешь знать, чего ждет от тебя Геварий и какую речь следует произносить на Форуме?
— Неплохо бы… — неуверенно пробормотал Хромин, взъерошив желтую шевелюру.
— Вся к твоим услугам! — со знакомой усмешечкой воскликнула Феминистия. — Но, согласись, в одном старый хрен определенно прав — жара несусветная. Не поможешь ли ты мне, прежде чем мы углубимся…
Хромин автоматически протянул руки, будто принимая пальто в гардеробе, и через секунду уже держал в руках кокетливую тунику, под которой, как выяснилось, на отчаянной девице благородного происхождения не было ничего. «А чего ты ждал? — мрачно подумал Дмитрий. — Бюстгальтера? Комбидресса?»
— Пока я не остыну, не оденусь, — ультимативным тоном произнесла дамочка, совершая уже знакомое хватательное движение пальцами, после которого глаза самозваного философа несколько расширились, а дыхание участилось. — И да поможет нам обоим Артемида девственная, чтобы это произошло, прежде чем мой возлюбленный консул и радетель о народном счастье умастит себя благовониями!
Как раз в этот момент по ступеням наружного крыльца здания, недавно купленного за бесценок блестящим оратором и политическим деятелем старой школы Геварием, легкими шагами серны сбежала изящная девушка, облаченная в мужскую тогу, а следом выкатился и запрыгал по ступеням, пересчитывая их коленями, локтями и ребрами, бородатый человек. Бородатого девушка поймала внизу лестницы, как опытный вратарь футбольного клуба «Рома» ловит мяч, летящий с одиннадцатиметровой отметки.
— Дядюшка! — воскликнула она участливо. — Вы не ушиблись?
— Пошли вон, бродяги! — вопил кто-то сверху голосом, которым благоразумное провидение награждает лишь привратников, вахтеров и ночных сторожей. — Сначала оденьтесь, как следует, а потом за родственников ходатайствуйте! Не надо нам ваших кузенов, сказано же вам, пятый раз сказано!
— Похоже, мы тут уже были, — пробормотал Святослав Хромин, неуверенно поднимаясь на ноги и поправляя на плече тогу, чтобы прикрыла маечную лямку. — Но понимаешь, Азазель, эти все колоннады так похожи…
— Как сказал ваш великий поэт, — привычно заметила Айшат, — «Я в сотый раз опять начну сначала…» Как бы ни было грустно ваше положение, дядя Слава, мое еще грустнее. Вы не знаете, что будете есть сегодня вечером. А я не знаю, где мой муж…
Дядя Слава поглядел на нее и максимально четко ответил на заданный вопрос, упирая на созвучие со словом «где». Он хотел таким образом выразить давнюю неприязнь к старшему брату и одновременно посочувствовать названой племяннице, к которой за неполный, но убийственно жаркий день успел привязаться, будто и впрямь приходился ей старшим родственником. Но Айшат поняла его по-своему и, как знает читатель, оказалась значительно ближе к истине. Она почувствовала, что ее муж ей сейчас с кем-то изменяет, и это, если учесть крайнюю кратковременность предшествовавшего семейного счастья, располагает к переходу мышления на более драматически ориентированных представителей женской лирической поэзии. Скажем, Ахматова…
* * *
День клонился к вечеру. Уже горланили свои дикие песни в тавернах гладиаторы. Уже были зажжены светильни, курильни и коптильни в термах, богатых домах и, напротив, задвинуты ставни в государственных учреждениях. Уже потянулись от домов длинные тени по городским площадям, и не так уж легко заранее сказать, не попросит ли одна из этих теней ваш кошелек, звенящий мелодичней бубна, или не срежет ли его с вашего ремня вовсе без спросу.
И вот в это недоброе, не сулящее покоя и отдыха неимущим время на остывающей мраморной скамеечке, установленной на городской площади для общественных нужд по настоянию прогрессивной части сената, отстоявшей социальный закон об общедоступных мраморных скамеечках, сидели двое. Весь в пыли после многочисленных падений с лестниц, старец утешающе склонил себе на колени голову девушки в мужской тоге, в то время как она дрожащим, но все еще мелодичным голосом декламировала, адресуясь к уходящему дню:
— Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: не стой на ветру!
— Подлец, он и всегда был подлецом, — говорил младший Хромин, он же отныне «дядя Слава», вызывая в памяти ускользающий облик Хромина-старшего, персонифицирующийся неизменно в разбросанные кубики, покореженных солдатиков и походы с одноклассницами в кино на деньги из разбитой копилки младшего брата. — Твой муж — подлец, Айшатка, и потерять такого муженька — это еще удача, это еще не каждому везет… И кагэбэшники тоже все поголовно подлецы… А с нациками бритоголовыми ты вообще не связывайся, буде доведется, это вообще люди ненормальные… Одни мы с тобой, Айшаточка, в этом городе, но ты не бойся, ты спи. Дядя Слава тебя посторожит.
Из глубины переулка донесся разговор: сюда шли, беседуя, двое, при этом говорил только один, статный, Русобородый. С левой руки у него свисал шлем.
— Знаешь, земляк, мне даже по душе твое немногословие. В главном ты со мной согласен: в этом богом проклятом городе держаться надо вместе. Держись Галлуса, и ты далеко пойдешь, Тором клянусь, потому что больше здесь некому поклясться богами Северян. Но близок, говорю тебе, близок холодный ветер, что выметет всю эту продажную империю дочиста, как хорошая хозяйка пол в комнате.
Тот, кому предназначались эти проникновенны слова, только хмыкал, поправляя пилу-рыбу на плече. Но вот, проходя мимо общественной скамьи, он вдруг замедлил шаги и вгляделся. Потом, не говоря худого слова, ринулся вперед, бросил рыбу в пыль и порывисто обнял сидящего там пыльного старика с девушкой на коленях.
— А ну, быстро обрадуйся мне! — сквозь зубы прошептал он на ухо сбитому с толку и пораженному внезапной обонятельной атакой Хромину-младшему. — Быстро назови как-нибудь по-здешнему.
— Дорогой племянник! — громко и фальшиво воскликнул дядя Слава, с трудом удержавшись от классической цитаты «Брат Вася, узнаешь брата Колю?».