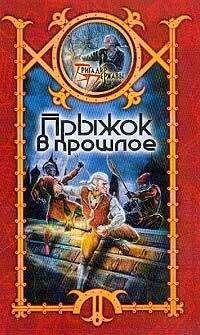Французский писатель Сент-Экзюпери написал хлесткую фразу, которая мне почему-то запомнилась — «Если бы мы услышали народную музыку XVI века, то поняли, как низко пали». Так вот, я ничего не могу сказать про XVI век и тем более про Францию, но в России в XVIII веке народная музыка меня не вдохновила. Думаю, и романтичного Антуана, услышь он свою народную французскую музыку, на крылатые фразы вряд ли бы потянуло.
Дело, конечно, не в том, плоха она или хороша. Дело в подготовке к восприятию.
Вполне милый Джо Дассен, да еще в стереофоническом исполнении, вызвал у моего предка не эстетическую, а лингвистическую реакцию. От народных же песен их времени не только у девок, но и у барина подозрительно заблестели глаза.
Вскоре стол опять опустел.
Нежные создания опять смели все барские деликатесы, выпили всю мадеру и мальвазию и окончательно распоясались. Чувствовалось, что такие посиделки им не внове.
— Часто так собираетесь? — спросил я Антона Ивановича.
— Не знаю, я здесь недавно. Вторую неделю, как вступил в права.
— Пожаловали или наследство? — полюбопытствовал я.
— Наследство от дядюшки.
Я вспомнил, что мне говорил сивобородый косец о том, что раньше деревня была не частная, а государева.
— Значит, дядюшке твоему пожаловали? За что?
— Государыня Екатерина Алексеевна за заслуги. Да вроде за Крымскую компанию, а там бог знает зачто. Я его почти не знал.
— А это что, дядюшкин гарем? — спросил я, показывая глазами на наших «гетер».
— Что дядюшкин? — не понял Антон Иванович.
— Гарем — это где жены живут у магометан, он еще сералем называется.
Про «сераль» предок оказалось, слышал.
— Вряд ли. Хотя старик, по слухам, был большой аморет. Однако Бога боялся и свальный грех на душу брать поостерегся бы. Можно у Машки допытать. Так она все одно соврет.
— А вон та «Зарема» откуда взялась? — спросил я, показывая глазами на восточную красавицу, смотревшую на меня время от времени тяжелым горящим взглядом.
— От турка пленного дворовая девка нагуляла. Турка после войны отпустили, мать ее померла, а она так в девичьей и выросла. Девка, говорят, хорошая, работящая, только глупая очень. И звать ее не Зарема, а Акулинка.
— А вон та кто? — я показал на вторую, обратившую на себя внимание девушку, бледненькую, в линялом сарафане.
— Это Алевтинка, солдатка. Она здесь вроде парии. Не вдова и не мужняя жена. У дядюшки, говорят, казачок был. Везде он его с собой возил и баловал очень. А тот казачок возьми, да и закрути амуры с дядюшкиной фавориткой. Дядюшке донесли, ну он их за блудом и застал. И казачок мил, и фаворитка люба. Сгоряча прибил, а потом, по доброте душевной, простил обоих. Только казачка своего, чтобы не баловал, против воли женил на этой вот Алевтинке. Казачок же, как оказалось имел с фавориткой большой амур, да такой большой что, забыв страх и благодарность, они в ночь после его венчания убежали. Их, понятно, изловили, в колодках назад доставили. Дядюшка второй раз не спустил, посек, конечно, а потом фаворитку отправил на скотный двор, а казачка сдал в солдаты. Алевтинка так и осталась, ни девка, ни баба, ни вдова, ни мужняя жена. Она сама сирота, без роду и племени, собой неказиста, приданого никакого, вот мужняя родня ею и побрезговала, в дом не приняла. Так она в людской и осталась. Она девка смирная, нраву тихого и безответного, все ею и помыкают. Да тебе-то чего в ней, никак глянулась?
— Глянулась, — сознался я.
— Так она ж тоща и страховидна! — поразился предок.
— Это по-вашему она «страховидна», а по-нашему красавица. Ее одеть нормально, да примарафетить… Если у нее еще и фигура хорошая…
— Какой там хорошая, видел я ее в бане. Никакой нет в ней ни фигуры, ни ядрености, одна фикция. Не зря от нее муж в день свадьбы сбежал. Впрочем, скоро сам убедишься. А не пора ли нам, девицы, в баню — хмель выгонять! — вдруг громогласно провозгласил Антон Иванович, к полной моей неожиданности.
Девушки радостно заверещали.
— Степка! — закричал помещик. — Баню протопили?
В зал вошел Степка и доложил:
— Давно готова-с.
Девушки засуетились и со смехом и криками ринулись из дома на улицу.
Мы с Крыловым, как люди степенные, приняли на посошок смородиновой настойки и пошли следом.
Баня, капитальное сооружение из толстенных бревен, стояла на берегу пруда.
От нее были выложены дощатые мостки к воде, вернее «купальне» — павильону, напоминающему беседку, изукрашенному резьбой. Все было сработано добротно и даже красиво. Видно было, что покойный дядюшка Антона Ивановича относился к мытью с пиететом.
Мы вошли в просторные банные сени, где уже висели девичьи сарафаны.
— Там разденемся, — указал на следующее помещение хозяин. Мы прошли в предбанник. Здесь все было спланировано и продуманно для «оргий с гетерами». Стол с приготовленной выпивкой и закусками, жбаны или корчаги, не знаю, как правильно назвать, с квасом и морсом. Широкие лавки с перинами, видимо, для плотских утех.
Наши одалиски были уже в моечном отделении. Оттуда слышался их визг и смех.
Мы присели на лавки и начали неспешно раздеваться, с любопытством поглядывая друг на друга. Меня, как и предка, интересовало, какое белье носили в соответствующие времена. Под снятым атласным, стеганым хлопком халатом, на предке оказались узкие панталоны и рубаха с широким воротом, напоминающая «апаш», из очень приличного белого материала. Под рубахой — еще одна, исподняя, из «голландского», как он сказал, полотна, тоже весьма изрядного. Под панталонами — подштанники из той же материи.
Мне, увы, похвастаться было нечем. Только что носками и плавками. Однако и это скромное неглиже заинтересовало Антона Ивановича.
— Таких чулок не видывал, — сообщил он, — ишь, какие короткие и без подвязок!
Я объяснил ему «устройство и назначение» нашего белья.
— Удобно, — согласился он, — надобно и мне такие заказать.
Наконец мы были готовы присоединиться к дамам. Я был достаточно пьян, чтобы не стесняться, однако и достаточно в своем уме, чтобы не опасаться напугать их своим «неконтролируемым» интересом. После разрыва с Ладой у меня не было ни одного романа, а посему прекрасная половина человечества вызывала большой и повышенный интерес.
Мне, помнится, стоило больших усилий отвлекаться от голых прелестей даже несимпатичных мне Марты и Ириши, — что уж говорить о нынешнем «рассеянном» состоянии.
Антон Иванович, кстати, был вполне в своей тарелке, и никакие эротические фантазии, судя по внешним признакам, в отличие от меня, его не волновали.
Деликатно сделав вид, что не замечает моего возбужденного состояния, он прошел в моечное отделение. Я же задержался после него на полминуты, глубоко подышал, попытался отвлечься от всего суетного и как в омут, бросился в «оргию».