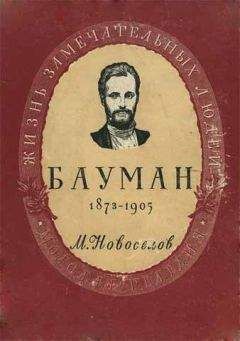Отскакав сажен на сто, крестьянин остановил лошадку и стал дожидаться шедшего следом нарочито замедленным и беззаботным шагом Баумана. Когда тот подошел, крестьянин спросил, голосом низким и хриплым:
— В Хлебное, что ли, барин?
Грач ответил без запинки:
— В Хлебное.
— К доктору — к Вележову, Петру Андреевичу?.. Садись, подвезу.
Бауман без колебания сел, сдвинул в сторону лежавший на дне розвальней, в сено зарытый мешок. Мешок сотрясся отчаянно. Грача шатнуло в сторону от пронзительного поросячьего визга. Крестьянин покосился на седока недовольно:
— Ты его, однако, не вороши. Волк, между прочим, поросячий голос за десять верст слышит.
— А разве тут волки есть?
Крестьянин повел глазами вокруг — по холмам, по открывшемуся опять слева ледовому простору Дона. За Доном черной стеной поднимался по крутогорью лес.
— Как волкам не быть? Жилья тут нет. Лес да овраги. А время-то — к вечеру.
Он подхлестнул лошадь. Поросенок хрюкнул, уже успокоенно, и замолк. Бауман спросил, устраиваясь поудобней на сене:
— Ты почему догадался, что я к Петру Андреевичу?
Крестьянин осклабился:
— А то к кому? Тут на сорок верст вокруг, кроме него, людей нет: мужики одни.
Помолчал, сплюнул:
— Хор-роший человек. Радеет о мужичке.
Бауман насторожился.
— Это… как же радеет? В каком смысле?
Крестьянин оглянулся и подмигнул многозначительно, будто намеком:
— Сами знаете! — И огрел кнутом лошаденку так озорно и круто, что она сразу рванула диким и корявым галопом. — Но, ты… покорная!..
Крестьянин ссадил Баумана у околицы: докторский дом с больницею рядом — на отлете, чуть в стороне от села.
Дом — бревенчатый, с крутой крышей — по самые окна осел в сугробы. Снегом заметена открытая, за резными жиденькими столбиками, терраса; завален снегом по самые острия частокола палисадник у дома; ни дорожек в нем, ни следов, ни снежной веселой бабы с толстым носом, с черной метлой под ледяным, водой окаченным, застуженным локтем. Значит, детей в этом доме нет. Грач поморщился: дом, в котором нет детей, — дом недобрый.
Он зашел со двора. Из конуры высунула лениво лохматую морду собака, приоткрыла пасть, собираясь залаять, да так и не залаяла.
Поднялся на крыльцо, постучал железным кольцом по обитой войлоком двери. Нет, не гулко выходит. Он ударил всем кулаком, весело и крепко.
И тотчас почти отозвался бабий сварливый голос:
— Кто там? Чего ломишься?..
Бауман отозвался:
— К Петру Андреевичу.
Но дверь не шелохнулась.
— Кто, я говорю?
— Приезжий. Товарищ Петру Андреевичу. — И так как опять не двинулась опасливая, недоверчивая, глухая эта дверь, он добавил почти что угрожающим тоном: — Из Санкт-Петербурга, из столицы самой.
Щелкнул крюк. Иззябшей рукой Бауман дернул к себе дверь. В лицо пахнуло жаром натопленной кухни. Навстречу глянуло жиром налитое, круглое, как блин, глупое бабье лицо.
— Что вы людей морозите? Не достучишься!
Он шагнул за порог, торопясь к теплу, к плите, уже видной в раскрытую из сеней в кухню дверь; над плитой вился пар от расставленных — тесно, одна к одной — больших, малых, но равно начищенных ярких медных кастрюлек. Запахло чем-то заманчиво вкусным.
Баба, на шаг перед ним, тяжело качаясь, приоткрыла дверь из кухни налево и просунула в щель повязанную платком голову:
— К вам.
Сказала она шепотом. Точно Бауман, стоявший тут же за ней, мог не услышать.
Голос, шепелявый, отозвался тоже шепотом, тихим и злым (но Бауману все, конечно, было слышно, до последнего слова):
— Сказано было — никого не пускать.
Баба оглянулась и почесала поясницу:
— Они говорят — товарищ вам.
— Товарищ?..
В голосе было изумление.
Бауман отодвинул бабу за плечо и шагнул через порог.
Он очутился в обширной, но очень загроможденной мебелью комнате. Со всех сторон пучились на Баумана пузатые какие-то комоды и шкафы, разлапые кресла, высокоспинный диван, огромная — на целую семью, не меньше — кровать. Стол заставлен грязной, с завтрака еще, наверно, не убранной посудой, графинчиками, бутылками, банками. Около клетки, в которой топорщился, широко разевая клюв, клест, стоял полный, лысоватый уже мужчина, с приятным, но одутловатым, отекшим, как бывает у больных почками людей, лицом. Он был небрит, в ночной рубашке и брюках, без пиджака и при входе Баумана неприветливо и хмуро взялся руками за трехцветные, ярко выделявшиеся на белой рубахе подтяжки.
— Простите, я… не одет.
Бауман улыбнулся как можно приветней:
— Ну, между коллегами… — И, отвечая на недоуменный взгляд доктора, поспешно добавил:-Я тоже врач. Моя фамилия — Петров. Николай Васильевич Петров. Я разрешил себе потревожить вас вот по какому случаю…
Вележов метнул взгляд на дверь, оставшуюся не прикрытой после того, как вошел Бауман.
Бауман рассмеялся беспечно:
— Случай смешной по существу своему, как вы сейчас увидите… Я иду — на пари с приятелями — пешком из Воронежа в Ростов. Сегодня утром на шоссе меня обобрали какие-то проходимцы, попавшиеся навстречу: продукты, деньги, всё… Хорошо еще — пальто и шапку оставили. И ногу я себе при этом случае… свихнул. Мужичок-попутчик, на счастье, подобрал меня, подвез и посоветовал обратиться к вам, как к человеку исключительной отзывчивости. Тем более что мы оба медики… Идти дальше — ясно, не имеет смысла, да и не могу я: нога… Я хотел попросить у вас рублей десять — добраться обратно до Воронежа. Оттуда я, само собой разумеется, сейчас же вышлю.
Все время, пока Бауман говорил, Вележов пристально следил за его лицом. И как только он кончил, воскликнул преувеличенно громко и восторженно:
— Вот это, действительно, случай! Ах, негодяи какие!..
Он шагнул к двери мимо Баумана, припер ее и круто обернулся, глаза в глаза.
— Я мог бы обидеться, — начал он медленно и задушевно. — Зачем вы придумали все это?.. Ведь все это- пари, грабеж, нога — выдумка. Я же прекрасно вижу, кто вы. — Он поднял ладони жестом, предупреждающим и скромным. — Я — не революционер, конечно. Где нам в герои! Я только скромный работник на ниве народной, маленький человечек, захолустненький. Но свой долг перед меньшим братом я свято помню: я помню, что перед трудовым народом мы, интеллигенты, в вечном и неоплатном долгу. И я плачу, чем могу… Скрываться передо мной нет оснований: я заслуживаю доверия, смею уверить. Вы можете мне без опасений открыть, зачем вы пришли сюда, к нам. Да я и сам знаю: вы пришли агитировать. Вы эсер.