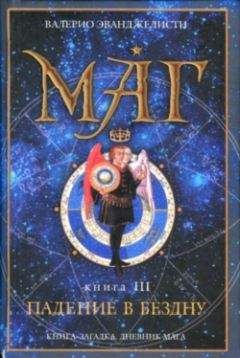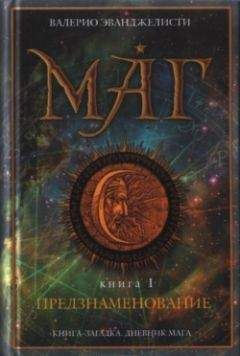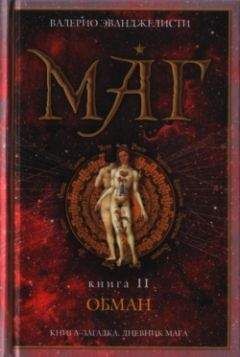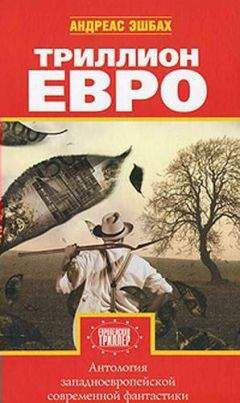— Ни одна женщина не может бросить дом и детей! — закричал Мишель. — Что я тебе сделал, кроме того, что любил тебя? В чем моя вина? Объясни, чтобы я понял, и тогда я не стану тебя наказывать. Но если не сумеешь, то пожалеешь, что родилась на свет.
Мишель был взбешен, но гнев его сдерживали два чувства: глубокая боль, которую он ощущал во всей полноте, и ощущение, что он столкнулся с чем-то таким, что невозможно понять, не имея ключа. Это было похоже на книгу «Аrbor Mirabilis». Во времена конфликта с Магдаленой из этих двух чувств он испытывал только первое. Видимо, чтобы возникло второе, надо было постареть и обрести мудрость.
Жюмель скрестила руки на груди и заговорила тихо, с трудом подбирая слова:
— Было время, когда ты окружал меня вниманием и тебя переполняло чувство. Ты даже хотел соединиться со мной в одно целое в том обряде, названия которому я не помню. Ты посвятил меня в свои исследования. Но я никогда не была сама собой. Для тебя я была Анна Понсард — любовница, Анна Понсард — жена, Анна Понсард — мать, Анна Понсард — сообщница, но никогда — просто Анна Понсард. Понимаешь?
Мишель широко раскрыл глаза.
— Нет, не понимаю. Объясни.
Она вздохнула. Было видно, что она силится говорить как можно яснее.
— Все роли, которые я играла в жизни, были связаны с тобой. И твое суждение обо мне всегда зависело от того, насколько я с ними справлялась. Твою любовь я получала взамен своей покорности. Многим женщинам этого хватило бы, но у меня был и другой опыт.
— Ты явилась с улицы, из борделя! — сказал Мишель, пряча за злостью полную растерянность.
Жюмель ни капельки не обиделась.
— Верно. Годами я отдавалась мужчинам, которые потом исчезали. Они расплачивались и уходили. Никто из них не претендовал на меня после того, как их обслужили. И я, если вдуматься, должна им быть за это благодарной. Я помню состояние своей души, а не тех случайных людей, что вереницей проходили мимо моих дверей. Когда они уходили, я снова была Жюмель. А с тобой я день и ночь мадам де Нотрдам.
Эту чудовищно аморальную тираду Жюмель выпалила на одном дыхании. Мишеля вновь охватил гнев. Хромая, он двинулся на жену, которая в испуге отстранилась, оказавшись в углу комнаты, и уставил на нее палец.
— Моя беда в том, что я женился на потаскушках и жалел их! — заорал он.
Но, сообразив, что таким образом он проклинает и Магдалену, быстро осекся.
— Ты бросила не только меня, ты бросила детей. Ты отдаешь себе отчет, что ты бесчеловечная мать?
Жюмель впервые опустила голову.
— Разлука с детьми далась мне тяжело. Пока я пряталась в доме у сестры…
— У сестры?
— Да, а где, ты думал, я была? Все это время я оставалась здесь, в Салоне.
Жюмель снова подняла голову.
— Разлука с детьми — это страшно. Я вернулась только из-за них. Но я не хочу быть приложением ни к тебе, ни к детям. Материнство — огромная радость, но оно не может быть обязанностью.
Мишель был так ошеломлен, что у него подкосились ноги и он рухнул на постель. Ему казалось, что он бредит или видит кошмарный сон. С трудом собрался он с мыслями, чтобы ответить. А собравшись, нашел ответ, расплывчатый и явно неудовлетворительный.
— Ты произносишь гадости, которые тебе диктует демон! Он, должно быть, вселился в твое тело и исказил разум. Роль мужчины и женщины определил Господь. Материнство — твое предназначение от природы. Если ты от него отказываешься, ты не женщина. Ты — исчадие ада!
Жюмель побледнела. Но глаза ее, прекрасные, как никогда, горели, и ни страха, ни бесстыдства в них не было. В них светился только ум, вынужденный обороняться.
— Если бы я заявила, что отцовство — предназначение мужчины, меня подняли бы на смех. Но к женщине отношение другое. Без материнства она вообще не существует. Но самое интересное — это то, что она не существует, даже если у нее есть дети.
Жюмель стиснула руки.
— Мишель, ты же сам учил меня, что мужчина и женщина дополняют друг друга и что вместе они составляют непобедимую силу. Как же мы можем друг друга дополнять, если живем в разных измерениях? Наши отношения можно вернуть, но на основе дружбы, которая рождается раньше любви и есть один из вариантов любви. И материнство может возродиться, если основой будет та же дружба. Подумай об этом. Наше счастье так близко — рукой подать.
Мишель не мог найти достойного ответа, кроме проклятия или насилия, и выбрал второе. Пододвинувшись к краю кровати, он начал отстегивать ремень.
— Раздевайся.
— Зачем? Ты хочешь меня изнасиловать?
За показным безразличием Жюмель чувствовался страх.
— Нет. Надо бы, но я стар и болен. Я тебя просто выдеру. Давно надо было это сделать. Побью до крови, но это лучше костра, которого ты заслужила.
— Когда ты собираешься вздуть мужчину, ты же не заставляешь его раздеваться? Согласись, что мое унижение доставит тебе удовольствие.
Мишеля это наблюдение поразило. Он застыл в нерешительности, потом встал на ноги. Ремень он держал в руке.
— Ладно, побью в одежде. Но не думай, что будет намного легче.
Жюмель согнулась, прислонившись к стене, нагнула голову и закрыла ее руками, чтобы защитить лицо. Мишель раскрутил ремень пряжкой наружу, потом передумал и взял пряжку в руку. Замахнувшись, он разжал пальцы, выронил ремень и снова упал на край кровати.
— Не могу, — прошептал он.
— Почему? — спросила Жюмель, все еще скорчившись возле стены.
— Потому что я люблю тебя.
Жюмель выпрямилась и быстро обернулась к нему. Черные волосы взметнулись кверху, упав на спину, и стали видны сияющие глаза и нежная улыбка.
— И я люблю тебя.
Взволнованный Мишель протянул руки. Вдруг снизу раздались оглушительные удары в дверь.
— Откройте! Откройте немедленно!
Мишель вернулся к действительности. Колокола продолжали звонить, шум на улице нарастал.
— Откройте! — кричали снизу. — Откройте, или мы вышибем дверь!
Мишель побледнел. Он быстро приласкал Жюмель, получив в ответ сияющую улыбку.
— Возьми детей и забаррикадируйся с ними у меня в кабинете. В углу там есть арбалет и старая шпага. На столе лежит кольцо в виде змеи, оно нам очень пригодится. Я вернусь, как смогу.
Мишель вышел из комнаты и спустился по лестнице со всей скоростью, какую позволяли больные ноги. Уходя из дома, Триполи не забыл закрыть дверь. Но на засов ее не закрыли, и теперь косяки ходуном ходили от ударов.
Мишель вздохнул и поднял защелку. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стенку. Перед ним оказалась маленькая, пышущая гневом толпа, вооруженная пиками. Впереди всех, сжимая древко копья, стоял мельник Лассаль, вчерашний друг.
После секундного замешательства Лассаль уставил копье в грудь Мишеля.
— Доктор Нотрдам, — крикнул он, — полчаса назад из вашего дома вышел ведомый еретик! Вы друг и заступник гугенотов, которые убили нашего короля! Оправдайтесь, если сможете!
Мишеля охватила такая паника, что он не знал, что ответить. Понимая, что никакие слова здесь не помогут, он пробормотал:
— Этьен, вы меня знаете. Я не гугенот.
— Лжете! — заорал мельник и повернулся к толпе: — Этот человек лжет!
— Лжет! — подхватила толпа. — Смерть ему! Смерть ему!
Мишель закрыл глаза, не в силах даже подумать о чем-нибудь. Однако в этот миг послышалось громкое цоканье копыт по мостовой.
— Вы что творите, канальи? — послышался властный, раскатистый голос. — Горе вам, если хоть пальцем тронете доктора Нотрдама! Я убью первого же, кто прикоснется к его шляпе!
Мишель приподнял веки и увидел барона де ла Гарда, со шпагой наголо, и с ним еще всадников, среди которых был Марк Паламед, первый консул Салона.
Толпа отшатнулась и отступила. Мельник попытался удрать, но двое солдат из свиты барона его поймали и схватили за руки. Один из них вывернул ему кисть, и копье выпало из руки. Другой надавал затрещин.
Толпа рассыпалась. Барон и первый консул подъехали к дому.
— Все в порядке, Мишель? — спросил де ла Гард.
— Да, Пулен. Большое спасибо.
— Закройтесь накрепко в доме и сегодня никуда не выходите.
Барон указал на небо.
— Я читал вашу брошюру о комете, которая прилетит в сентябре, и о бедах, что она принесет. На этот раз вы погрешили оптимизмом: гражданская война уже началась.
Падре Михаэлиса поразил праздничный вид Салона, в то время как вся Франция была в трауре. Улицы посыпали песком и устлали пахучими травами. Со стен домов свешивались цветочные гирлянды и полотнища с вышитыми на них французскими лилиями и савойскими крестами. Кортеж, который вез сестру Генриха II Маргариту де Берри к мужу, Филиберу Савойскому, с трудом продвигался сквозь восторженную, хотя и тихую толпу. Стоял декабрь, и, после засушливого лета и осени 1559 года, по небу неслись облака, и дул ледяной, пронизывающий ветер.