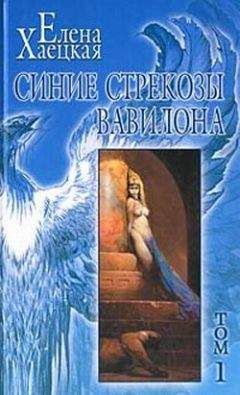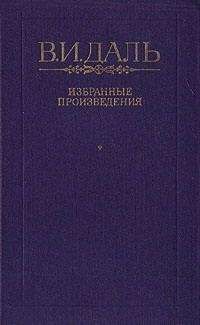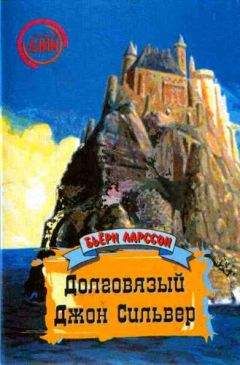Еще и эта бабушка, предлагавшая себя в рабство…
Элси отложила заготовку. Подошла к окну, взяла с полки частый гребень, медленно начала расчесывать волосы. Разобрала на пряди, заплела. Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса. Как же. Вон сколько их на гребешке осталось.
Сняла один с гребня, расправила в пальцах. Длинный, сквозь пыль золото светит. Прекрасны волосы у Элси – только это в Элси и прекрасно. А что душа у нее сонная, по светлым мирам блуждающая – того со стороны не видно.
Подобрала крошку хлеба, в волос завязала, а после, окно растворив, на карниз положила. Села на подоконник боком, пепельницу своротив по случайности, и смотреть стала – что будет.
Поначалу ничего не было. Какие-то люди по дну колодца прошли, мармелад на ходу жуя. Облаками затянуло созвездия, так что было бы совсем темно, если бы не свет, из окон льющийся.
И вот прилетела малая птица. Поскольку Элси за окном не шевелилась, то пичуга осмелела. На карниз опустилась, прошлась враскачечку, головку то влево, то вправо повернула, осмотрелась. И вот уже такой вид приняла, будто карниз этот – ее личная собственность. Порадовалась и позабавилась толстая Элси, на птичку эту глядя. А птица вдруг крошку хлебную увидела и – раз! – клюнула. И тотчас, будто устрашившись собственной дерзкой отваги, взлетела и исчезла в темном небе.
И волос золотой вместе с той крошкой унесла.
«…Чувство Ливня из Облаков – неземное и божественное, ибо в этот миг мы, смертные, находимся наедине с нашими богами. Поэтому очень важно заставить это краткое мгновение длиться как можно дольше. Любыми средствами оставаться наедине с богами как можно дольше – наш долг, ибо это благочестиво и угодно обычаю.
Мы говорим, что харигата подобен мужчине, но лучше его, потому что это его лучшая часть без всего остального. И они также превосходны, ибо не все мужчины имеют такую силу, как харигата. Они нам преданы, никогда не устают от нас, как мужчины. Они могут быть какими угодно. Грубыми или мягкими, как мы пожелаем. Харигата намного более выносливы, чем любой мужчина, им неведома усталость или разочарование.
Ведь не каждой женщине повезло встретить сильного мужчину, но понятием об идеале наделена каждая. А это рождает страдания. Не следует умножать страдания неудовлетворенными желаниями.
Есть два пути, одинаково мудрых, следуя которым можно избежать страданий, рожденных неудовлетворенными желаниями. Можно отказаться от желаний и можно удовлетворить их…»
Лэсси отложила книгу.
– Тилли, ты закончила, наконец, плескаться? – крикнула она, приподнимаясь на матрасе и поворачиваясь в сторону ванной.
Из ванной выбралась Тилли – в одной футболке, с полосатым полотенцем на мокрых волосах.
Она получила-таки аванс! Зубами выдрала, едва зубы те не обломала – но выдрала. Верховный Холуй сообщил Тилли (та названивала ему каждый день и не по одному разу, но все как-то неудачно – то на совещании заседал Верховный Холуй, то уехал на склады, то по другому телефону с хозяином, что на Канарских островах, разговаривает, да мало ли еще причин найдется к телефону не подходить), что, к сожалению, финансовое положение фирмы таково, что никак не позволяет произвести авансирование в размере 40% от общей суммы договора. Но 25 – это железно.
И действительно. Когда Тилли явилась за железно обещанными деньгами – встрепанная и настороженная, метя обтепанным подолом безупречно чистый ковер, – ее встретили, как именинницу. В кожаном кресле утопили, сигареткой угостили, чайку предложили, а после и денежки вынесли. Эдакое чудо серебряное, певучее. 225 сиклей, монета к монете. Брать немаркированное серебро в слитках Тилли отказалась наотрез еще в самом начале переговоров, ибо беспокоилась насчет подделки, подозревая всех и вся, а уж Верховного Холуя и вовсе не скрываясь почитала за отпетого мошенника. И унесла в тяжелой холщовой сумке через плечо, по бедру бьющей, свои 225 сиклей – 25 процентов обещанного аванса. Верховный Холуй брезгливо поморщился, поглядев ей вслед, и поскорей выбросил из головы эту неприятную девицу из Мармеладного Колодца.
А Тилли шла домой – и злая, и пьяная от денег. Еще бы! Полгода ничего, кроме мармелада, почитай, и не ели и не пили. Купила по дороге яблок и мяса, и красного вина с хлебом. Все три девицы наелись, напились. Хмель сразил их, будто пуля разбойничья.
Пробудились на другой день. Радио заткнули («…безответственные заявления угрожающего характера, столь щедро расточаемые в последнее время оппозицией мар-бани, недовольной мерами, принимаемыми достопочтенными рес-сари для стабилизации ситуации в Вавилонии, заставляют задуматься о…»)
Насыпали серебра в ванну. И полезли по очереди купаться в деньгах, как то и мечталось с того дня, что Тилли принесла, пряча ликование под мрачной личиной, контракт. Правда, серебра маловато оказалось – надул Верховный Холуй с авансом. Да еще Тилли вчера по пути домой растратилась. Но все равно здорово.
Вон и некрасивая толстая Элси преобразилась, вся до пояса золотыми своими волосами оделась, будто волшебным покрывалом. А что говорить о Лэсси – та всегда красавица; теперь же и подавно.
Лэсси забралась в ванну, где терпко пахло сиклями. Ах, какой горький запах у серебряных сиклей, аж горло сжимается. Солью пахнут, древесной стружкой, дымом от сжигаемых в храмах поленьев. Но больше всего солью – той, что растворена в крови. Прекрасный запах, изысканный. Так пахнет от богатых женщин, когда те, разметав сверкающие волосы по вороту шубы, стремительно идут от автомобиля к театру или ресторану.
Элси пошевелила ногой россыпи серебра, слушая его тонкое пение под струями светлой воды.
Прольется кровь, прольется пот,
Прольется боль.
Их ветер высушит – и вот
Проступит соль.
Ее кристаллам ночь и день
Теперь сверкать.
И склонит голову олень
Ее лизать.
Вирши были написаны у них на стенке кухни. Кто-то из бесконечных тиллиных мужчин оставил по себе – а сам ли сочинил, слышал ли где – того никто не знал. Да и имя того мужчины уже позабылось. Один только член его не позабылся, остался в цепкой памяти тиллиной. Вот уж кто воистину имел глаз художника, так это Тилли. Коли приметит выразительную или любопытную деталь – в человеке ли, в явлении ли урбанистического свойства – непременно запомнит и через несколько лет, буде необходимость такая возникнет, воспроизведет в точности.
Вышла после купания Лэсси, будто Вирсавия. Посидели втроем на кухне, чаю выпили, полюбовались друг на друга, на звезды за окном. После Тилли встала, чтобы опять в продуктовый магазин идти, полушубку свистнула. Приполз старенький их, общий (на трех сироток сразу) полушубок из искусственного желтоватого меха, выбрался из кучи вещей, в углу сваленных, отряхнулся. Тилли провела по нему рукой, подняла с пола, надела. Обнял ее полушубок, теплом окутал. Ибо не забыл он, как с позорной помойки его забрали, вытащив из-под орущего кота, как эти маленькие крепкие руки очистили его от грязи, как дырки зашили. Потому и предан был и на свист с готовностью бежал.
Тилли взяла большую сумку и два сикля денег, еще мокрых после купания.
– Скоро приду, девки, – сказала она подругам своим. – Ждите с едой.
Тилли (с полными сумками, на темной лестнице, неожиданно спотыкаясь обо что-то мягкое и бесформенное): Ой!
Бесформенное (шевелясь на грязных ступеньках, сверкнув толстыми стеклами очков, будто искрами брызнув): Благослови Мардук, доченька!
Тилли (устало): Да отвяжись ты, бабусь…
Бабка (с живостью): Да я уж отплачу, доченька, я уж отплачу… Отработаю, довольна будешь… Неделю, почитай, один мармелад со стен и соскребаю, тем и живу. Росту у меня не хватает дотянуться до мест побогаче – те все высоко помещаются, а внизу – что, внизу – одни поскребыши… (Долгий, почти звериный всхлип). Милостями Нинурты жива лишь…
Нинурта, бледный властитель времени. Видать, крепко молилась тебе бабка, воссылая просьбы свои в храм Эпатутилы, если Воитель Богов аж к Мармеладному Колодцу слух преклонить изволил.
И снизошел бледный Нинурта до бабки безвестной, никому не нужной, ни к делу, ни к внукам не приставленной. Протянул палец свой с ногтем твердым и синеватым, коснулся самого зловонного дна Колодца, где как раз и стояла с полными сумками еды Тилли. В мгновение ока понеслось для нее время вкривь и вкось, заметалось перед взором ее то вперед, то назад, и вдруг увидела она себя самоё таким же бесформенным кулем тряпья, откуда и лица-то не разглядишь. Старой себя увидела, голодной, на мармеладных поскребышах отощавшей. Будто стоит перед злющей встрепанной девицей, умоляя принять под кров свой.
Закружилась голова, потемнело в глазах у Тилли. Чтобы не упасть, потянулась она рукой к стене, но не успела взяться – пошатнулась да и рухнула прямо на бабку, едва не придавив ту котомками…