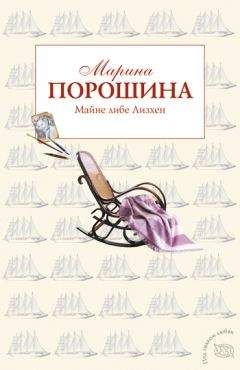— Вот и вы, Ленни Оффеншталь! Готовлю суп из яств родной природы — придите к нам на выставку, народы! — провозгласил Евграф жуткими стихами. Ленни и Лизхен поежились. — Ну, лезьте, лезьте! Новое искусство требует движения, кинетики! Тело зрителя должно оказаться, так сказать, на острие векторов! Летом мы установим тут резиновое полотно для воздушных полетов, — деловито добавил он.
Когда Ленни и Лизхен были уже на вершине сугроба, в дверях появилась интересная пара: высокий крупный мужчина в ярко-красной шубе и полицейский пристав.
— Это же Маяковский, — шепнула Ленни на ухо Лизхен. — Что там происходит?
Красная шуба и пристав переругивались.
— Я тут присланный для слежения за спокойствием в широких смыслах, — бубнил пристав. — А в неожиданных одеяниях пущать не велено.
Однако поэт не был готов снять свое огненное великолепие. По всему было видно: то, что откроется под шубой, еще меньше будет соответствовать «спокойствию в самых широких смыслах».
— Смените одеяние, пущу, — продолжал бубнить пристав.
— Никак невозможно. Придется ехать домой, опоздаю к началу чтений, — утверждал Маяковский.
Дискуссия прекратилась довольно неожиданно: полицейский предложил господину поэту три рубля на конку. Тот быстро согласился, выхватил у пристава трехрублевый билет и крикнул в глубины здания:
— Пришлите Велеречивого с лопатой — второй раз в гору не полезу! Пусть скопает, к черту, свой сугроб!
Увидев Ленни и Лизхен, большеголовый кумир расставил руки и дал им знак скатываться прямо в его объятия. Что они и сделали.
— Но вы же вернетесь? — отважилась спросить Ленни.
— За вами? — молниеносно отреагировал Маяковский, глядя на нее, но обращаясь явно к Лизхен.
Лизхен неодобрительно хмыкнула и двинулась внутрь. Мимо нее просквозил Велеречивый — щуплый юноша, который начал спешно раскапывать в снегу дорожку.
— Почему он совсем без зубов, ваш командор? — спросила Лизхен у Ленни, оглядываясь, куда бы бросить шубку. Ни одно место не показалось ей достаточно безопасным.
— Думаю, случись революция, она оплатила бы ему новую челюсть, но ведь не случилось. Он дикий… — сказала Ленни, и они вошли в ярко освещенный зал.
Когда Евграф Анатольев, поэт крошечных форм, точнее формочек — втайне от друзей он делал по вечерам песочное печенье и тем успокаивал шалившие нервы, — неделю назад впервые вошел в фабричный павильон, тот был разделен картонными стенами на несколько каморок, в которых пылились остатки реквизита: шляпы, детские кроватки, бутафорские музыкальные инструменты. Евграф действовал широкими мазками — большинство стен он снес, оставив выгородки, которые делили павильон на три пространства. Старье выкинул. Из студийного хлама осталось несколько громоздких деревянных штативов, от одного из которых так и не удалось отделить неработающую кинокамеру. На безголовых штативах волею куратора красовались аквариумы, откуда мрачно поглядывали на посетителей довольно толстобрюхие рыбехи. Было здорово натоплено, да и народу немало. Судя по хитрым глазкам большинства, официальная часть уже состоялась — где-то внутри явно был открыт буфетный кран.
— Надеюсь, этих рыб они жарить не будут, — пробурчала Лизхен, которая чувствовала себя среди демократичной разухабистой толпы не очень уютно.
— Ах, от Евграфа можно ждать и горючих костров, — пропела Ленни и устремилась сквозь толпу к фотоснимкам, кидая по сторонам быстрые взгляды: она искала Эйсбара.
В первой выгородке были выставлены снимки Александра Родченко. Знаменитые тени. Углы зданий, которые вдруг начинали казаться гигантскими кораблями. Уходящие в точку ступени. Посетители негромко переговаривались. Самого автора не было видно. Евграф, скрепивший на затылке не очень чистые длинные волосы японскими палочками (вот уж кто своими нарядами не боялся нарушить «спокойствие в широких смыслах»!), приволок поднос с котлетами и водрузил его на деревянный ящик. Ящиков в зале было несколько, и они явно «работали на интерьер».
— Заготовил для Маяковского, но думаю, он не вернется, — шепнул он Ленни. Та искала глазами Родченко. — Он там, дальше, — сказал ей Евграф и пошел обратно в глубины павильона. Неожиданно с треском лопнули две лампочки, и «родченковская» часть зала погрузилась в полутьму. Тут же визгливый мальчишеский голос прощебетал:
— Тьма, тьма, голытьба, голытьба… — подросток в черном свитерке уже лез на ящик, а вокруг него сгущалась небольшая группа слушателей.
Но Ленни было не до чтений. Она уже проскользнула во вторую выгородку, где красовались фотополотна одного из так называемых пиктореалистов — Николая Васильева-Тони. Ленни слышала, что он снимает не на пленку, а на стеклянную пластину, которую специальным образом смазывает вазелином. На снимках фигурировала полуобнаженная «натура» — тающие в сигаретном дыму женщины-вамп.
— Львицы в человеческом облике, — прогнусавила толстуха, увитая кудрями, как викторианский домик плющом. Ей в ответ хором захохотала компания, известная под прозвищем «Рифма-трио» — Дольский, Жаров и Галина Ладынина. Губы, щеки и ресницы их были жирно накрашены.
— …Мы карты из колоды — фанфары, бейте код, — проверещал Анатольев, одаривая трио все теми же котлетами. И подмигнул Ладыниной, которая не без алчности смотрела в сторону пустующего ящика и одновременно начинала расстегивать блузку.
— О-о, будет игра на раздевание? — спрашивал кто-то из толпы.
Ленни показалось, что она слышит знакомый голос. Она резко обернулась. Нет, не он. Не Эйсбар. Наконец она продралась к своим снимкам. Около них, как ни странно, было тихо. Лизхен оказалась там раньше ее и сейчас стояла подле снимков, слушая симпатичного дьявола с моноклем. Вот ее любимые кадры! Ленни просияла — как чудно развесил их Евграф! Это были опыты по совмещению разных фотогорафий. Впрочем, техника — ее личное дело. На картине трюк не виден. Автомобиль, контуры которого множатся, и это создает впечатление, что он мчится быстрее, чем мир вокруг. Велосипедист — колеса тоже множатся, и фигура гонщика, и кажется, что он сейчас влетит в трамвай, который делает дугу на площади. А вот ее гордость: вдоль семиэтажного дома летит женщина. Что это? Она падает? Или воспаряет? Ее голова снята несколькими экспозициями так, что создается впечатление, будто она мотает ею из стороны в сторону — то ли отказывается верить в то, что падает, то ли продолжает с кем-то спорить. Ленни снимала акробатку на спортивной арене — та прыгала на батуте, который из кадра изъят. К ней подошел худой лысый человек с трубкой.
— Примите поздравления! Столь юное создание и так точно чувствует конструкцию драмы. Завидую вашему будущему. К вашим услугам — Александр Родченко.
Ленни чуть не задохнулась от счастья. Не удержалась и… стала прыгать на одном месте, как заводная игрушка. Родченко засмеялся и похлопал ее по плечу:
— Не взлетите — пробьете потолок.
Она подскочила по инерции еще несколько раз, но уже озираясь, — не появился ли Эйсбар. И увидела. Он стоял у входа к ней спиной, высокий, выше всех в этом зале, и с кем-то беседовал.
— Эйсбар! — радостно крикнула она и устремилась к нему, налетая по дороге на удивленных гостей и отскакивая от них наподобие теннисного мячика. Подлетев к Эйсбару, она схватила его за рукав и развернула к себе.
— Вы представляете, Родченко… только что… — выпалила она и осеклась.
На нее смотрело чужое, вежливо улыбающееся лицо.
— Простите… Я перепутала… Обозналась… Простите… — пробормотала она и ринулась назад. Столкнулась с Анатольевым, выбила у него из рук поднос — котлеты раскатились по полу, — бросилась на колени и принялась собирать их, стукаясь лбом об Анатольева, который тоже ползал на коленях. Послышался шум, хохот, возня, все устремились ко входу. Ленни поднялась, не зная, куда девать руки в котлетном жиру. В павильон входила чудная процессия. Впереди шел, покачиваясь, Жоринька, похожий на самого себя в роли великосветского пшюта, таких он переиграл уже немало: короткое распахнутое черное пальто, белый шарф, сдвинутый на затылок цилиндр, золотой локон падает на лоб, на овечьем лице пьяная ухмылка. К одному его боку прижималась гадкая девица в рваных чулках, грязном платье с турнюром и с безобразным декольте, явно подхваченная в каком-нибудь дешевом борделе. К другому — ангелоподобная гимназистка в наглухо застегнутом форменном платье, аккуратном фартучке, с бантом в толстой косе. Далее следовали какие-то темные личности в количестве человек шести, которые, размахивая бутылками, распевали «Марсельезу». Замыкал шествие томный певец декаданса, знаменитый шансонье Алексис Крутицкий с прутиком. Этим прутиком он погонял всю честную компанию, как гусей, время от времени выкрикивая: «Тега, тега, тега!» На каждое его «тега» компания заливалась дружным хохотом, а Жоринька в конвульсиях смеха перегибался пополам. Публика, столпившаяся вокруг, начала посмеиваться, показывать на обалдуев пальцами.