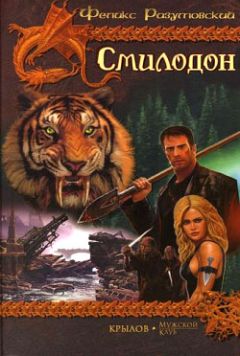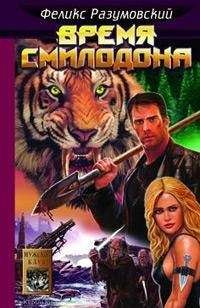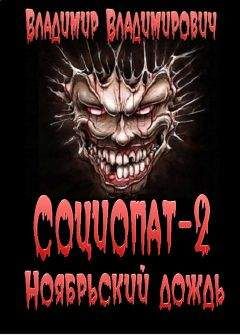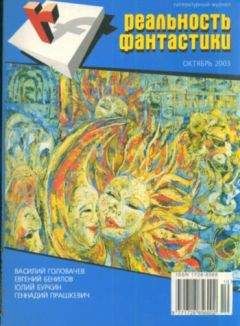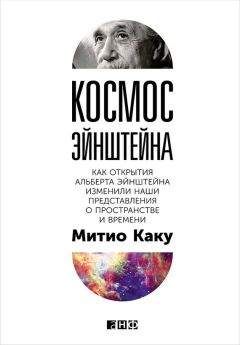– Впечатляющее зрелище. Наводит на мысли, – сделал краткий комментарий фельдмаршал Неваляев, и в мерзком, издевательском голосе его послышалось нечто философское. – Сразу вспоминаешь про нерушимость государственности, про существование закона и порядка. Ну пойдемте же, господа, пойдемте, полюбуемся на кульминацию.
Особо любоваться было не на что. По прибытии позорной колесницы к месту казни мужичка ввели на эшафот, здесь к нему первым делом подошел священник и напутствовал краткой речью, милостиво, во искупление грехов, дав поцеловать крест. Затем чиновный чин в картузе с бодростью огласил приговор. Тюремщики сняли с мужичка дерюгу и передали в лапы палачей, те же, оголив его по пояс, бросили на деревянную кобылу и принялись сноровисто вязать ему руки и ноги. Лихо управившись, встали – один справа, другой слева, замерли с невозмутимым видом и по команде чиновного немедленно приступили к действу: неспешно поднимали плеть, примеривались и с криком: «Берегись, ожгу!» – со свистом рассекали воздух. После третьего удара полетели брызги, после пятого – ошметки, после десятого… Резко свистели плети, страшно молчала толпа, пронзительно, по-звериному кричал истязаемый человек. Вопли его становились все слабее, быстро превращались в хрип и постепенно смолкли – экзекуция заканчивалась в тишине. Затем едва живого мужичка сняли с кобылы, прикрыли кое-как рубахой, навечно отметили клеймом и на матрасе, в зарешеченном фургоне покантовали в тюремную больничку. Ему предстояло лечение, а после – вырывание ноздрей, постановка знака: «Вор» на щеки и на лоб и дальняя дорога на каторгу.
– Да, воровать можно, но не нужно попадаться, – сделал резюме фельдмаршал, глянул на чиновного в картузе, резво убирающегося в карету, и стал сосредоточен и суров. – Ну все, господа, довольно зрелищ. Пора подумать и о хлебе насущном.
Все верно, кто не работает, тот не ест. Вернулись к Гостиному, пошли по рядам, и все возвратилось на круги своя – фельдмаршал взимал, Петрищев с Бобруйским бдели, Буров вникал. Действовали с размахом, напористо, но без огонька – представление на эшафоте не радует. В чертогах же Меркурия, наоборот, атмосфера была оживленно-приподнятой. Купечество с энтузиазмом обсасывало экзекуцию, блистало наблюдательностью и метким словцом, посмеивалось в липкие от пива усы:
– Не умеешь – не воруй. А то останешься без шкуры. Да-с, обдерут шкуру-то до костей. Вот так-с.
В общем, скучающе бродил Буров по всем этим шубным, табачным, мыльным, свечным, сидельным, нитяным, холщовым, шапочным лавкам и искренне обрадовался, увидев литератора Крылова – тот, уже изрядно приняв горячительного, с улыбочкой инквизитора третировал купечество. Неспешно забредал в лабазы, требовал показать товар лицом, рылся в нем с обстоятельностью ежа, веско оттопыривал губу, в задумчивости кивал, с важностью надувал щеки, но ничего не покупал и, оставляя после себя разруху, шел себе, как ни в чем не бывало, дальше. Приказчики при виде его вздрагивали, бледнели, как мел, спешно закрывались на засовы и щеколды, и, верно, баснописец был тому виной, что лавки на Малой Суровской, еще не охваченные сбором, закрылись на обед нынче ранее обычного.
– Черт! Дьявол! Невозможно работать! – пожаловался Неваляев, вытащив репообразные свои часы, обреченно кашлянул, тяжело вздохнул и повел компанию в трактир кормиться на халяву.
Ели сообразно с жарой и выматывающей духотой все холодное: ботвинью с осетриной на льду, молочного заливного поросенка, шпигованный копченый окорок, соленья, маринады, колбасы. Водку, пиво и вино не жаловали, пользовали прохладный имбирный квас. Пошло хорошо…
– Ну что, господа, к блядям? – то ли спросил, то ли констатировал фельдмаршал после трапезы, раскатисто рыгнул, ладонью вытер рот и глянул вопросительно на Бурова: – Вы, князь, как? К своей или к нашим? А, ну как знаете. В общем, встречаемся на том же месте в тот же час.
Ну да, место встречи изменить нельзя…
И пошел себе Вася Буров, да только не по бабам, а по делу – на временный наблюдательный пост в Аничкову слободу. Молча, без всяких там песен, зигзагами докандыбал до места, деловито залег, устроился поудобнее и принялся собирать информацию. Конечно, если по уму, то следовало бы сменить имидж, прикинуться хотя бы нищим – убогим, увечным, в смердящем рубище, повязанным вонючим платком. Но это если по уму. А с другой стороны, сойдет и так – при парике, камзоле и вагоне наглости. В России живем, а ее умом не понять…
Во владениях Шешковского все было, похоже, без изменений: по-прежнему наливалась колером буйно расцветающая сирень, все так же отирался у стены тупой быкообразный здоровяк. Да и сам великий инквизитор прибыл в то же время, что и вчера, с завораживающей, поражающей воображение пунктуальностью.
– Брюхо подбери, – сказал он амбалу, грозно осмотрелся и исчез в дверях, с тем чтоб уже через считанные минуты с криками: «Гуля! Гуля!» потчевать пернатых на загаженном подоконнике. Жизнь его, похоже, катилась по глубокой, проложенной раз и навсегда колее. С улыбкой одобрения полюбовался Буров на сию приверженность привычкам, выдающую натуру обстоятельную, вдумчивую, склонную к самоанализу и размышлению, отлежал как следует бока и потихонечку убрался, вернулся в родимую стихию, сиречь во владения Меркуриуса. Там он приобрел шелковые кроваво-красные перчатки, плащ «альмавиву» – ядовито-синий с малиновым подбоем, еще кое-чего по мелочи, глянул на часы и поспешил на место, кое изменить нельзя, – на рандеву с коллегами. Те прибыли вовремя, но не в настроении, в несколько бледном виде. Оказывается, встретили в бардаке шуваловских, не сошлись с ними во мнении на некоторые принципиальные вопросы, естественно, перешли на личности, ну а затем, как водится, дали в морду. С переменным успехом, но с великим шумом, с таким, что наверняка дойдет до их сиятельства графа Чесменского со всеми вытекающими нелицеприятными последствиями. Искупить кои возможно лишь ударным а-ля папа Карло, Паша Ангелина и Паша Корчагин трудом.
– Так что, господа, в пахоту, – с ходу принялся крутить гайки на болтах фельдмаршал и чем-то сделался здорово похож на матерого фашиста дядю Вилли из советской героической киноэпопеи «Щит и меч». – Работать, работать, работать.
Куда тут денешься, отправились работать. И запестрели, пошли у Бурова перед глазами чередой нескончаемые вывески – то с претензией, то наивные, то аляповатые, то курьезные, то выполненные тонко, с завидным мастерством. Кухмейстер Яков Михайлов – огромный, краснорожий, с устрашающими усами – «отпускал всем желающим порционный стол». «Портной Иван Samoiloff, из иностранцев» с чисто русской непосредственностью грозил клиентам шпагообразной иглой. Отставной унтер-офицер Куропатко, бравый, при мундире, палаше и орденах с лихостью командовал своим табачным заведением. Да не просто так, а с рифмованными комментариями: