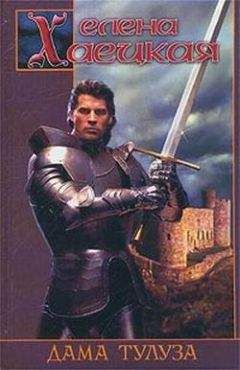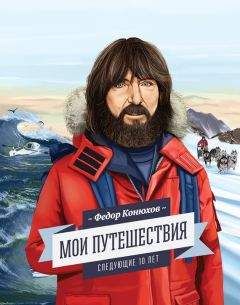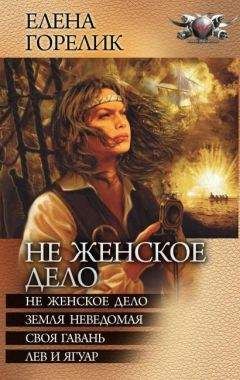Она убегает, она берет хлеб, она, плача, отламывает половину от большого каравая, несет Монфору и подает. Она отводит глаза, ей жутко.
Бедная девушка, она твердо убеждена в том, что Монфор, едва лишь откусит, так тут же и падет мертвым. Посинеет весь, и язык у него распухнет и вылезет изо рта, наподобие того, как молочная каша вылезает из котла, и шея раздуется…
И тогда ее сожгут за то, что она отравила графа Симона. И графиню Петрониллу сожгут. Скажут – по приказу графини.
И все это случится потому, что Монфор решил отведать хлеба, освященного добрыми людьми.
Однако покуда служанке мерещатся все эти страхи, Монфор и его сын – оба с удовольствием обмакивают хлеб в вино и отправляют в рот, ломоть за ломтем. И ничего дурного с ними не случается, и никакое благословение их не берет.
Монфор поднимает от кубка глаза и грозно говорит служанке:
– Брысь!
Девушка убегает, грохоча башмаками.
Оставшись наедине с Гюи, Симон возвращается к прежнему течению своих мыслей. Повторяет, еще более задумчиво, чем прежде:
– …Бигорра…
У Гюи ощутимо портится настроение.
– Какая же она старая и некрасивая, мессир.
Симон устремляет на Гюи свирепый взор.
– Бигорра?
– Графиня Петронилла. Мне совершенно не хочется любить ее.
– Видел уж, кого вам хочется любить, – ворчит граф Симон. – Через десять лет ваша Аньес будет еще страшнее Петрониллы де Коминж.
– Эти десять лет еще не прошли, – замечает Гюи.
– Зато она умрет лет на двадцать раньше вас, – утешает сына Симон. – Да и кто заставляет вас любить ее? Она должна родить вам наследника, вот и все.
Гюи хмурится. Симон дружески обхватывает его за плечи.
– Мне нужна Бигорра, – говорит он. – Вы будете стеречь для меня Пиренеи. Я хочу, чтобы мои дети породнились с Лангедоком.
Он смеется.
– Того и гляди вы начнете заноситься передо мной, мессир граф Бигоррский.
Гюи наконец улыбается, пока что через силу.
– Разве я посмею, мессир граф Тулузский?
* * *
– Съел? Освященный хлеб?
Безносый псарь поражен. Глаза у него вытаращены, рот раскрыт, распахнутые ноздри с сопением втягивают воздух.
Служанка кивает.
– Слопал. Как Бог свят.
– И не поперхнулся?
Служанка мотает головой,
– Здоровехонек.
Псарь погружается в глубокие раздумья.
6 ноября
Венчание происходило в Тарбе. Присутствовали епископы Кузерана, Оша, Олерона, многочисленное духовенство из аббатства Сан-Север-де-Рустан, из Асте, Сарьяка, Артаньяна, Сан-Пьера.
Симон постарался на славу. Гасконские прелаты, много терпевшие от местной знати, вполне предавшейся еретикам, теперь позабыли прежние мучения. Они получили назад потерянные было земли и готовы были за это устилать путь Симона розовыми лепестками. Про себя Симон усмехался, но преклонение принимал милостиво.
Маленькая рыжеволосая невеста тряслась от зимнего холода, стоя перед епископом Тарбским, рука об руку с рослым, юношески угловатым женихом. В раскрытые настежь ворота собора задувал ледяной ветер.
Местная знать взирала на происходящее с настороженным любопытством. Симон, окруженный своими вассалами и сержантами, поглядывал за тем, чтобы обошлось без скандалов. А что гасконские бароны весьма охочи до скандалов – то было видно издалека. Однако верно и то, что Симона де Монфора они страшились нешутейно и потому держались смирно.
После долгого обряда молодых вывели на ступени собора и стали осыпать деньгами и зерном. Пущенная кем-то монета неудачно стукнула невесту по лбу. Петронилла жалобно пискнула. Гюи стало вдруг жаль ее. Он обнял ее и прижал к себе. Петронилла была совсем как ледышка и очень костлявая.
Колокола гремели в небесах так, что снежные шапки на горных вершинах подрагивали. Нерасторопные (впоследствии высеченные) слуги принесли, наконец, меховые плащи с капюшоном. Петрониллу закутали, как младенца. Гюи под всеобщий одобрительный рев взял ее на руки и поцеловал в посиневшие губки.
Такая выходка очень понравилась гасконским баронам. Они радостно завопили, а кое-кто попытался подражать молодому мужу и ухватывал всех встречных женщин, кого за зад, кого за грудь. Это усугубляло сумятицу.
Свадебный пир длился вдесятеро дольше против торжества в церкви. Гасконские прелаты напились вровень с гасконскими баронами. Симон торжественно выпроводил своего сына Гюи вместе с Петрониллой в спальню, добавив, что тех ждет работа поважнее пьянства. Гасконские бароны за спиной у Симона при этом реготали.
Занавес опустили, лучину запалили, служанку выставили вон. Повернувшись к своей жене, Гюи увидел, что Петронилла плачет. И без того-то казалась она ему скучной. Теперь ее личико сделалось совсем кислым, сморщилось, стало с кулачок.
– Перестаньте реветь, – резковато молвил Гюи.
Беззвучно всхлипывая, Петронилла сняла красное блио, осталась в одной рубашке – красивого тонкого полотна.
Гюи швырнул в угол все то, что натянул на него утром оруженосец: и наборный пояс (безделка, но богатая), и сюркот, и рубашку с узорами по подолу.
Жена уже сидела на постели, свесив ноги. Гюи с размаху плюхнулся рядом, решив про себя покончить с неприятностью как можно быстрее. Взял ее за плечо, надавил, развернул, заставил лечь. Она улеглась, уставилась в потолок безрадостным взором. Когда он для порядка чомкнул ее в щеку, то брезгливо дернулся: лицо было мокрое.
– Да что вы все рыдаете? – недовольным тоном спросил Гюи, снова усаживаясь на постели.
Петронилла шмыгнула носом, высморкалась в подол рубахи.
– Извините.
– И снимите с себя эту власяницу, – добавил Гюи. – Как это я буду делать вам ребенка, если вы – будто труп, завернутый в пелена?
Петронилла послушно разделась. В свете двух лучин, что горели в изголовье кровати, роняя пепел в большой медный таз с водой, Гюи разглядел полоски, оставленные плеточкой на плечах и спине жены. Потрогал пальцем. Голая Петронилла поежилась.
– Что это у вас, а?
– Это…
– Вас что, плеткой били? – определил Гюи и нахмурился.
– Это… я сама. В часовне.
– А, – сказал Гюи успокоенно. – Ну давайте, ложитесь же.
Брякнулся с ней рядом.
– Вытрите лицо, живо. Не жена, а жаба. Вся сырая.
Отвернулся.
Он слышал, как она возится, тяжко вздыхая.
– Готово?
– Да.
Гюи приподнялся, взял ее за остренький подбородок и поцеловал. Губы и веки Петрониллы были солеными.
* * *
Согласно договору, заключенному вместе с браком и оглашенному после свадебной церемонии в присутствии высших духовных иерархов Гаскони, Бигорра передавалась отныне во владение Гюи де Монфора с тем, чтобы впоследствии перейти к его детям от союза с Петрониллой де Коминж. Графиня Бигоррская, в свою очередь, получала от супруга ежегодное содержание в пятьсот серебряных марок. Этот сбор в пользу Петрониллы де Коминж должен осуществляться впредь в качестве налогового сбора в окрестностях Каркассона (перечислялись феоды и мелкие владения) перед Пасхой.
– Пятьсот серебром… Это, я думаю, телег пять нагрузить надо одними деньгами, не меньше.
– Это в сотню раз дороже, чем сам ты стоишь, болван.
В простонародье бурно обсуждают услышанное, с многозначительным видом пережевывают новости. Собственно, простонародью немного дела до этой свадьбы, но – любопытно.
Протрезвевшие гасконские бароны один за другим приносят клятвы верности Гюи де Монфору, восемнадцатилетнему мальчишке, франку. Он и нравится им, и раздражает. Как всякий истовый католик, через слово – «Господь, Господь», а чуть что не по нему – хвать за оружие.
Гюи принимает присягу за присягой. После дает торжественную клятву управлять этими землями, никак не нарушая местных обычаев, если только эти обычаи не оскорбляют Господа.
С Петрониллой он встречается только в постели. Они почти не разговаривают между собой.
Гюи – воин и мальчик, беспощадное и набожное дитя Симона де Монфора. Что общего у него с дочерью графа Бернарта?
декабрь 1216 года
Мышью под носом у кота явился в Тарб Оливьер, именно в те дни, когда там засел Монфор. Симон был еще пьян – вином, торжеством, но более всего чудным словом «Бигорра».
Оливьер привел с собою человека, которого именовал своим сыном. Как и многое другое, их родство надлежало толковать, однако, лишь в духовном смысле. Оливьер никогда не зачинал плотских детей и никогда не прикасался к женщине.
Был болен некий Гийом де Жерон, богатый торговец овцами, живший тогда в Тарбе. В час смертный он вдруг затосковал. Велел не пускать к себе священника, а вместо того начал молить домочадцев и родных, чтобы нашли и привели к нему для утешения совершенного катара. Доселе Жерон считался благочестивым прихожанином Святого Стефана, и потому многие из домашних его были удивлены такой просьбой.
– Болезнь тягостна для мессена. Он утратил рассудок.