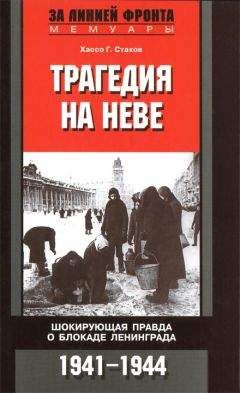Шведова вспрыгнула на колесо, стремительно перебралась через борт. Черт с ним, что юбка задралась — только бы не прикасался, урод иномирный. Ряшку нажрал… Все-таки белогвардейцы они или нет?
Остальные уже загрузились. Майор хозяйственно расстилал телогрейки — захапал обе, вздремнуть собирается. Торчок подмигивал — у кабины трясет меньше, место уже занял. Собственно, Женька тоже туда нацелился. Вот кто он-то такой? Неужели тоже чужой? Но как же в это поверить? Рожа интеллигентная, опять окуляры нацепил, пилотка как из задницы. Москвич, он и есть москвич. Но ТАМ ведь совсем другие должны быть…
— Ты чего, брезгуешь, что ли? — хмуро спросил москвич-переводчик. — Садись посередке, мягче будет. Или мне к борту отсесть?
Марина села на лапник между лейтенантом — то ли своим, то ли чужим, — и надежным Торчком. Павло Захарович скреб щеку, уже щетинистую — по всему видно, принять то, что майор наплел, было нелегко и видавшему виды ефрейтору. Что ж делать-то теперь?
Майор, с удобством устроившийся на лапнике и телогрейках, приоткрыл один глаз:
— Вы беседуйте, не стесняйтесь. Я сплю крепко. Только уж лучше на отвлеченные темы дискутируйте. А то я пугаюсь, когда над головой из «нагана» шмаляют.
— Спите, Виктор Иванович, какие уж тут разговоры на ходу? — сказал Земляков, устраивая понадежнее винтовку.
В кузов заглянул старший лейтенант:
— Устроились? Можем двигаться?
— Так давно пора, — заметил Попутный, зевая.
Хлопнула дверь, из кабины донеслось:
— Он сказал «поехали!» и взмахнул рукой. Жми, Леха…
* * *
Когда старшина заревела, Женька вообще ничего не понял. Девчонка не плакала, а натурально ревела. Говорят «в три ручья», так тут все четыре. Потому как и из носа… И эти всхлипы задыхающиеся… Кошмар какой. Уткнулась в плечо Торчку и аж колотит ее…
Женька вытащил флягу, но совать воду было нелепо — подавится определенно. Вцепилась в юбку свою — кулак аж белый. Попутный глянул, решил спать дальше.
Не всхлипывала, стонала-задыхалась. Негромко, но прямо хоть вытаскивай «лахти» да стреляйся. Торчок что-то бормотал, гладил девчонку по плечу.
— Может, остановимся? — пробормотал Женька, кривясь.
— Та пройдет сейчас. Наш Варварин тож так говаривал. Про «поехали» да про руку махнувшую… — беспомощно пояснил ефрейтор.
Шведова крепко сунула ему кулаком в живот, всхлипнула особо яростно…
Проскочили хутор, выехали к шоссе, ждали, когда регулировщик разрешит в колонну втиснуться, а Шведова все плакала. Обессилела, правда, хлюпала по-простому. Пила из фляжки, зубами звякала, снова хлюпала. Лицо вновь распухло, взрослым, бабьим стало.
— Марин, он не нарочно. Я про Коваленко. У нас так часто говорят, — сказал Женька, вертя в руках старшинскую пилотку. — Фраза просто знаменитая. Ее наш первый космонавт скажет. Ну, когда в космос полетит.
— О как. — Торчок покрутил головой. — А оно, наш или ваш взлетел-то?
— Советский.
— Оно и понятно. — Торчок погладил мятый старшинский погон. — Слышь, Мариш, чего мы творили-то.
Шведова только всхлипнула, но Женька, чувствуя непонятную обиду, сказал:
— И наши регулярно летают. Стараемся не сдавать позиции.
— Э-э… — Ефрейтор лишь махнул рукой.
— Пилотку отдайте. — Старшина села, попыталась вытереть красное лицо. Ей слили остатки воды. Шведова утерлась, надела пилотку.
— Уроды вы. Под царским небось флагом жопы капиталистам лижете?
— Не знаю, — мрачно сказал Женька. — Он какой был-то, царский-то? Черт, да не смотри на меня так. Я по армейской форме, на головном уборе, вот такую же звезду красную ношу. Пусть и не на пилотке.
— Не хочу об этом. — Шведова яростно вытерла распухший нос. — О другом рассказывай. О нормальном.
— Ну… — Женька посмотрел на часы без стрелок на ее запястье. — Во, могу о часах этих. Можно сказать, лично с эсэсмана снял. В Харькове дело было…
Трясло полуторку, пыль садилась серой пудрой, скрипела на зубах. Рассказывал Земляков. Почему-то не о рукопашных схватках с озверевшими эсэсами и не об отчаянном штурме Госпрома. О госпитале сказать захотелось. О том, как вытащили, вывезли раненых, всех, до последнего человека. Как немцы были в двух шагах, а от корпусов Клингородка все отходили набитые ранеными машины и повозки. И каким чудом тот транспорт соскребали со всего города. О Варварине вроде и не упоминал, но ведь понятно. Участвовал. Правильная та операция была. Как «калька» не выгибайся обратно, как вектор не рыскай, люди-то живы остались.
21 июня.
Вечер
Закончена основная часть Выборгской наступательной операции. За одиннадцать дней нашими войсками были прорваны три оборонительные полосы противника.
21 июня.
Утро
Начата Свирско-Петрозаводская наступательная операция в Южной Карелии.
В 8 часов утра 21 июня 50 бомбардировщиков 261-й смешанной авиационной дивизии и 150 штурмовиков 260-й и 257-й смешанных авиационных дивизий нанесли массированный бомбо-штурмовой удар.
Проведена 3,5-часовая артподготовка: до 150 орудий и минометов на километр фронта, более 100 тысяч снарядов и мин.
Ленинград
11.40
Проснулся Женька от дребезжащего звонка — трамвай голосил — битый, мятый, но живой трамвайчик. Вокруг высились стены домов: выбитые стекла, краснеющий под пятнами осыпавшейся штукатурки кирпич, провисшие оборванные провода. «Диверсантка» стояла на перекрестке, пропускала общественный транспорт. Кто-то невидимый бодро и невнятно говорил сверху о литовских партизанских отрядах «Смерть оккупантам», «Вильнюс», «Победа» и имени таинственного Костаса Калинаускаса[60]. Ага, радио, громкоговоритель…
Личный состав спал. Шведова скрутилась клубком, ловко втиснув голову во впадину между вещмешками. Торчок похрапывал, приоткрыв рот с желтоватыми редкими зубами. Женька сел, нащупал свою пилотку, — тьфу, за отворотами красной пыли полно — еще в Выборге стройматериалами запасся.
Попутный приоткрыл глаз:
— Северная Пальмира, Земляков. Досыпай, пока можно.
Спать Женьке больше не хотелось. Сидел у борта, смотрел на малолюдные улицы. В Питере, в смысле, в Ленинграде, Земляков бывал в малолетстве, да и года два назад с предками наведывался — на концерт «Скорпионс» приезжали. Сейчас в серых, пыльных улицах можно было узнать что-то знакомое. Но… Жуткая ведь вещь — Блокада…