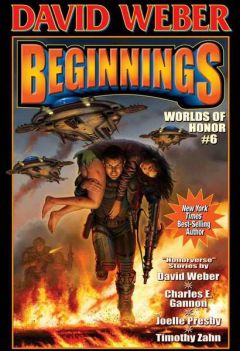Многих слов Артур не понимал, переспрашивал, и Тимми, которая оказалась Томой, Тамарой, объясняла. Она пила, не пьянея, и речь ее становилась все более горячечной, нетерпеливой — Тома выплескивала накопившееся, не заботясь более о слушателе. Все равно, скорее всего, завтра умирать и ей, и Артуру.
…Когда Томке исполнилось пять, мамаша окончательно спилась, квартиру продала за гроши, дочку взяла под мышку и отправилась бомжевать на свалку. Томка не возражала: попробуй возразить, так жопу отобьют — не сядешь даже. А на свалке оказалось хорошо, может, потому, что лето: Томка играла со всякими штуками, в еде отказа не было, что найдешь, то и ешь, люди много вкусного выбрасывают. В общем, не жизнь — малина.
Так оно продолжалось до первых дождей, которые принесли с собой холод и милицию с телевидением. Рычащую, царапающуюся Томку запихнули в машину и куда-то повезли. Так в Томину жизнь вошла ювенальная юстиция, а еще приемник-распределитель и детский дом. В детском доме кормили исправно, хотя и хуже, чем на свалке, там было чисто, но от ребят требовали порядка и послушания. А слова «дисциплина» Томка ни разу до этого не слышала, как и многих других слов. Она вообще изъяснялась так, что воспиталки краснели. И ругались. Но Томке было по фигу.
Впрочем, уже к Новому году девочка пообвыклась. Что-что, а выживать она умела, и подстраиваться под требования сильных — тоже. На елке даже стишок рассказывала, трогательно тянула шейку, отросшие кудряшки падали на плечики. Воспиталки умилялись. Наверное, с умилением взрослых и была связана новая веха Томкиной жизни: однажды в морозный день пришли тетя с дядей и предложили ей жить с ними. Томка не отказалась.
Тетя требовала, чтобы приемная дочь называла ее мамой, но Томка маму помнила и с тетей вообще предпочитала не беседовать — боялась.
Квартира с горячей водой, собственная комната, заваленная игрушками. Никаких тебе правил, ласка и забота. Сначала Томка не верила в удачу, воровала из холодильника еду и прятала под кровать — а вдруг закончится? Но на следующий день продукты в холодильнике снова самозарождались. Так не бывает. Где-то тут скрывался подвох. Наверное, дядя с тетей пошутили и скоро выкинут Томку на свалку. И все повторится.
Но они, похоже, не шутили. Томка плакала и кричала ночами, но ее не выкинули. Томка писалась в постель, но ее жалели. И в шесть лет счастливые родители отвели приемную дочь в первый класс.
Следующие восемь лет жизнь Томы была полна любви, счастья, детских секретов, шушуканья с подружками, контрольных и домашних работ, спортивных секций…
Почему биомать не померла раньше и как узнала, где ее дочь, — Тома так и не выяснила. Девочка заканчивала восьмой класс, заканчивала хорошо, и волновал ее Егор из девятого «Б», намекнувший, что Тома ему небезразлична. А у поворота к дому ее подстерегало прошлое в образе опустившейся беззубой бомжихи, вонючей и страшной.
— Томка? — прохрипела бомжиха. — Томка Кузнецова?
Тома отшатнулась — она вообще не переносила пьяных и грязных людей, жизнь на свалке стерлась из ее памяти.
— Что, от родной мамки нос воротишь? Ах ты, тварь неблагодарная! А ну-ка подойди!
Тома бросилась бежать, не оглядываясь, на ходу вытащила из сумки мобильник, позвонила папе и разрыдалась. Папа примчался с работы, долго не мог выяснить, что же произошло, а потом пообещал бомжиху от дочки отвадить. Тома поверила. Но прошлое уже испятнало ее, дотянулось трясущейся лапой.
Лето было затишьем перед бурей, Тома ездила в языковой лагерь, совершенствовала английский. Осенью что-то перевернулось внутри, Тома сама не понимала, как получилось, что она забила на учебу, стала изводить родителей, орала маме: «Ты мне никто! Ты меня не рожала! Меня бомжиха родила! Я по помойкам шаталась!» Девочку водили к психологу — без толку. С каждым днем она запутывалась все сильнее, как муха в паутине.
Ей грозили отчисление из школы и отцовский ремень. Ей грозила смерть от наркотиков — за первое полугодие Тома попробовала все, кроме героина. Ей грозили венерические заболевания… Но пока вроде бы везло. Иногда, в моменты просветления, Томе хотелось наложить на себя руки — на бесполезную шалаву, то пьяную, то под кайфом. Родителей было жалко, себя было жалко.
Однажды она подслушала, как мама, рыдая, говорила папе: «Это всё гены проклятые! Хоть обратно девку отдавай! Ну за что, за что нам?!» Но папа маму оборвал, сказал, что не гены, а переходный возраст, что он скорее с женой разведется, чем от дочери откажется. И Тома убежала. Добровольно сдалась прошлому.
Сначала она кочевала по дворовым знакомым, потом — по случайным знакомым, часто в других городах. Пела под гитару и рассекала на мотоцикле. Ввязывалась в самые опасные предприятия, даже пробралась в «горячую точку» и смотрела, как в ночном небе вспыхивают взрывы.
А потом Томка убила человека. Солдата. По пьяни, случайно — баловалась с его пистолетом и застрелила.
Томку ждала смертная казнь, но она громко кричала, что ей всего пятнадцать, и этим отсрочила приговор. Теперь Томку должны были судить. Скорее всего, ее заперли бы в колонию, но она решила этого не допустить, удавиться, убить себя любым способом: мало того что покойный солдатик во снах приходил, еще и родителям сообщили.
Томка впервые в жизни отчаялась. Впервые в жизни осознала всю глубину добровольного падения и меру ответственности за саму себя.
В этом состоянии ее и нашел доктор Губертnote 9. И предложил участие в эксперименте.
Так Томка оказалась на Пустоши. Сначала она твердо решила начать новую жизнь, стать хорошей, насколько получится. А потом пришли кетчеры, поймали ее, изнасиловали, отрезали уши и продали в рабство. В бордель. Томка впала в апатию, не сопротивлялась ни вонючим фермерам, ни пьяным наемникам. Хозяину не хамила, была на хорошем счету, только угасала день ото дня.
В тот день ее послали прислуживать в трактире — разносчица заболела, и безучастная ко всему шестнадцатилетняя Тома бегала по залу с кружками пива, с мисками… Споткнулась, выругалась — как бомжи из ее детства. И мужик с татуированной рожей, сидевший в углу, подскочил к ней, ухватил за руку.
Это был Маузер. Он вытащил Томку из борделя, взял с собой. Чтобы не привлекать внимания, помощница Вестника стала мальчишкой Тимми.
Шли годы, о которых на Пустоши не помнили. Недавно Тамаре исполнилось двадцать лет. У нее не было близких, кроме Маузера, и если она о чем-то жалела, то никому не рассказывала.
— Так ты — Древняя? — прошептал Артур. — Променяла свой мир на наш?
— Ты прямо как маленький. В моем мире меня только колония ждала. Ну, тюрьма, понимаешь? Гауптвахта на много сезонов. А здесь я свободна. Пусть и с отрезанными ушами.
Артур поскреб голову обеими руками. Ох, мутафаг задери, некоторые вещи лучше не спрашивать и не знать.
— Проболтаешься — убью, — сказал Тимми, наглый юнец. — Мне напомнишь, что знаешь об этом, — тоже убью. Понял?
— Понял. Только вот что, Тома… Тимми, помню-помню! А Маузер — кто он?
— Вестник. — Из-под личины пацана выглянула молоденькая, хорошенькая девушка. — Вестник он.
Стоило Лексу закрыть глаза, возникала картинка: туман ползет из Разлома, точно пар из пасти огнедышащего исполина. Дикий, отказавшийся бросить дом, дрожащими руками пытается прикурить. Мертвый сослуживец таращит глазй в белесое небо. И мост: спаянные рельсы в два человеческих роста, а внизу — пустота. Кто строил эту переправу? Наверняка уже после Древних… Взрыв — мост со скрежетом накреняется, проседает и медленно-медленно начинает сползать в Разлом, виснет, ударившись о каменный обрыв. Под его тяжестью стонут опоры на той стороне Разлома и, не выдержав, летят в бездну, увлекая за собой каменную глыбу. Лекс специально высунулся из танкера, чтобы услышать, как железо ударится о дно Разлома, но звука не было. Или был, но утонул в грохоте моторов.
— Ну что, капитан? — без выражения проговорил Глыба. — Домой?
— Домой, — пробурчал Кусака, сворачиваясь на полу калачиком. — Испили кровушки, а теперь — домой. — И захрапел.
Будто по команде Барракуда и Глыба подхватили его под руки, усадили в кресло и пристегнули. Он свесил голову и забормотал, вяло помахивая руками. Тронулись. Затрясло.
Троих потеряли, думал Лекс. Троих хороших ребят. Лежат сейчас, в брезент замотанные…
— Командир! — Барракуда тодкнул его локтем в бок. Лекс обернулся: уже «готовенький» Барракуда протягивал ему флягу, приговаривая:
— Хлебни, полегчает. Самое интересное только начинается, так что, это… — Рядовой икнул, прикрыл рот. — Так что крепись, генералом будешь!
Вопреки ожиданиям, после трех глотков бормотухи на душе стало еще гаже. Мир погрузился в туман, рождающий некроз. Барракуда рядом не переставая икал, Кусака вздрагивал и сучил ногами, Глыба сосредоточенно вел танкер.