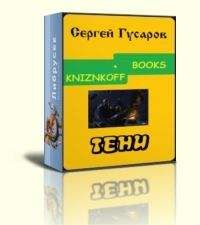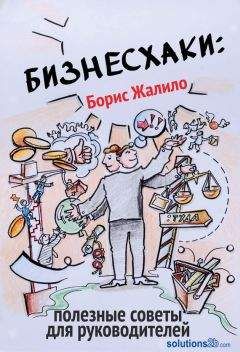— Тебе хвалу возношу, прекрасная Мара, красивейшая из богинь, прекраснейшая из всего, созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок, твои глаза завораживают, как магия полнолуния, твои губы порождают желания, от которых закипает кровь, улыбка твоя чарует, словно рассвет над горным озером, волосы волнуют, словно видения темной ночи, дыхание душисто, будто цветение персикового сада. Жесты твои легки и грациозны, руки тонки и изящны, а пальцы точены, словно изваяны резцом мастера из слоновой кости. Прекрасны линии твоих плеч, соблазнителен подъем груди, изящна талия, манят к себе движения бедер, покатость живота. Ноги твои стройны и свежи, как первый луч солнца, а каждый шаг разит, словно лезвие меча, оставляя вечный след в душе любого мужчины. А как прекрасен румянец на прохладных бархатных щеках, как загадочен взмах ресниц, поворот головы, сколько гордой грации во вскинутом подбородке! Ты воплощаешь все радости мира, смысл жизни, цель существования, ты создана на счастье и на гибель, ибо даже гибель не страшна, коли служит платой за твои объятия. Каждый миг без тебя растягивается в вечность, и пища не имеет вкуса, и влага не утоляет жажды, воздух давит грудь, сон не дает отдыха, а солнце — тепла. Без тебя мир сер и скучен, и я бросился бы в огненную пропасть, если б не знал, что увижу тебя снова, прекраснейшее творение Сварога!
— С кем это ты такие речи ведешь?!
— Верея? — Ведун поднялся на ноги, отряхнул колени. — Что ты тут делаешь? Ты что, следишь за мной?
— Третий день, — призналась боярыня. — С кем ты тут разговариваешь? Берегиню сманиваешь? Полудниц совращаешь? Тебе чернавок мало, с которыми ты ни на одну ночь не расстаешься? Ну, с кем? — Девушка подошла вплотную, ее щеки горели, а дышала она так тяжело, словно не таилась в кустах, а бежала к нему от самого Калинова моста.
— Тебе-то какая разница, благороднейшая из женщин? Разве я не должен забыть тебя навсегда?
— От твоих речей у меня начинает болеть сердце, горит душа, у меня от них ноги подгибаются, ведун. Я хочу знать, кому они предназначены. Покажи мне ту счастливицу, что вызвала в тебе такое восхищение!
— Я ведь говорил, Верея. Нет у меня иных женщин, кроме тебя. Неужели ты мне не веришь?
— Не верю, ведун. Ты ночуешь под одной крышей с двумя красными девками, ты бегаешь в кусты к каким-то полудницам. Разве так помнят и любят?
— Только о тебе помню, — обхватив за плечи, привлек к себе Верею Олег. — Только тебя знаю, только тебя люблю.
— Врешь, — прошептала боярыня, но отвернуться от поцелуя не попыталась.
От жаркого прикосновения у Середина самого закружилась голова. Не в силах сдержаться, он опрокинул девушку на спину, торопливо расстегнул свой пояс, рванул завязку штанов. Скользнул рукой по ноге любимой от щиколотки вверх, одновременно поднимая подол, и нетерпеливо ворвался во врата наслаждения.
— Да… Да… — Верея вцепилась ему в волосы, привлекла к себе, тяжело задышала в ухо. — Да, да!
И лишь когда волна сладострастия лишила их обоих сил, внезапно заявила:
— Как ты всё-таки груб, ведун. Груб и невоспитан. Чуть чего взбрело в место чуть ниже живота, так сразу опрокидывает, подол задирает, по траве валяет.
— Ну, извини, боярыня.
— Не извиню! Неужели непонятно, что сарафан испачкается, помнется? Одежду нужно сперва снять. На землю что-нибудь расстелить. Ну, чего стоишь? Распускай завязки на юбке. Если я у тебя одна, то ныне не отпущу, пока всего не получу, целиком. Чтобы до завтрашнего дня ты больше уже ничего ни с кем не смог. Так оно будет надежнее. Или ты не согласен?
— Я согласен на всё, любимая. Лишь бы ты была со мной.
Расстались они только через два часа. Боярыня, покачиваясь от изнеможения, стала пробираться к стоянке князя Рюрика, а Олег, наклонившись, собрал раскиданные палочки, три из них воткнул, чтобы не сбиться со счета, и виновато прошептал:
— Ты прекраснейшая из богинь, великая Мара. Из богинь… Нужно будет прихватить завтра коврик вроде молитвенного. А то ведь и колени недолго о землю застудить.
Когда Середин вернулся к юрте, его ждало еще одно подзабытое зрелище: на том краю лагеря, что занимали новгородцы, ржали кони, недовольно мотая головами, а воины боярина Лебедяна накладывали им на спины потники, седла, затягивали подпруги. Обычно табун с воинскими конями пасла стража в стороне от воинского лагеря, в нескольких верстах. Рискованно, конечно, можно разом всех скакунов лишиться — но деваться некуда. Конь не мотоцикл, его на недельку не заглушишь, под навес не закатишь. Лошадь за неделю такую кучу под этим самым навесом навалит — сам захочешь за десять верст убежать.
— Уходят, — сообщил Явор, с силой растягивая шкурку, прежде чем укрепить ее на новенький каркас. — Лопнуло у боярина терпение. Не верит боле, что доберется до сокровищ. Опять же чародея своего лишился. Мудрый был старик. Но, видать, никому волхва черниговского Вельмеся не одолеть. Самый сильный он на Руси. Был таковым, таковым и остался.
— А ты веришь?
— Во что?
— В то, что мы сможем снять заклятие и добраться до добычи князя Черного?
— Верить надобно в мудрость богов и в их милость к своим детям. В остальном смертным належит уповать на смирение и терпение.
— Значит, смирение есть главная добродетель?
— И терпение, — добавил Явор и принялся сосредоточенно соскребать со шкурки остатки мездры.
На вкус мясо нутрии почти не отличалось от зайчатины, суп и вовсе получился наваристый, как со свиного окорока, а потому Олег, когда его подозвали к котлу на ужин, решил голову происхождением мяса особо не забивать, а работать ложкой побыстрее, пока менее брезгливые спутники щи первыми не выхлебали. Разумеется, по обычаю кушать положено в очередь. Но как это объяснить щекастому Чеславу, у которого разум ребенка, а брюхо — взрослого мужика?
Когда дело дошло до самой гущи, осевшей на дне, до сочных, пропитанных отваром, полупрозрачных луковиц, крупных кусочков репы и косточек с хрустящими хрящами, девушки съели всего по паре ложек и отвалились от котла.
— Благодарствую этому дому, сыты безмерно, — поклонилась присутствующим Даромила.
— Можно подумать, не ты готовила, — оглянулся на нее Середин. — Это тебе спасибо. У тебя руки золотые.
— Скажешь, боярин, — довольная Даромила опустила глаза, а на щеках ее проступил румянец. — Было бы мясо хорошее да капуста. Варево из этого устроить — дело нетрудное.
— Я пока за водой схожу, — подняла у порога опустевший бурдюк ее подруга. — Запамятовали о сыте совсем.
Она почти уже шагнула наружу, и тут боярин Чеслав, провожавший ее жалобным взглядом, вдруг громко и четко воскликнул: