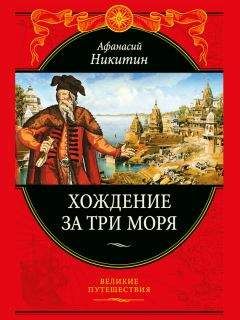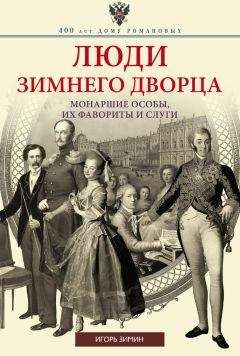Князь Владимир положил булаву на колени, откинулся в кресле и захохотал. Несколько мгновений лишь смех государя аккомпанировал воплям Микулы, затем палата словно взорвалась. Бояре повскакали с мест; кто кричал «Ой, любо, любо!», «Ату его, ату!» и «Пасть порви!», кто топал сапогами, кто улюлюкал и свистел, кто подбадривал ребе хлопками в ладоши, кто советовал хряснуть в челюсть, по зубам, кто вопил на варяжском «Фак его, фак!», ибо были средь бояр люди варяжского корня. Княжич Юрий поматывал головой в такт ударам ребе, сжимал кулаки и сверкал глазами, а когда Цицей Каппа отдышался и снова бросился на выручку Помпонию, наследник привстал и лично пнул Цицея в задницу ногой. Палата была что море в бурный шторм, и лишь три утеса оставались недвижимы среди всеобщего волнения: Менту-хотеп, Рехмира и Менхеперра. Их лица были спокойны, руки скрещены на груди, губы плотно сжаты, и лишь искорки в глазах не вязались с этой показной невозмутимостью. Внимательный наблюдатель догадался бы, что за избиением римлян они следят с большим удовольствием.
Ребе Хаим поверг Помпония ниц и со словами: «Прости мя, Боже!» – хлестнул его оторванным рукавом по жирному загривку. На том экзекуция завершилась. Тяжело дыша, ребе принял княжескую чарку, поднесенную слугой, выпил и поклонился князю.
– Не гневайся, государь! Если и сотворил я тут шурум-бурум, то не своей волей, а только велением Господа. Он снисходителен к людским грехам, но лжецов и хулителей не любит. Ой не любит! Для них расплата быстрая и кара неминучая. Азохун вей!
– Этот Бог мне нравится, – произнес князь Владимир, отсмеявшись. Затем он окинул палату строгим взглядом и молвил: – Кончили веселие, бояре! Поглядели мы на священств иноземных, послушали их речи и даже потешились шутейным действом, какого увидать не чаяли. Теперь к делу! Жду я советов от Думы Малой и Думы Большой, срока на те советы даю два дня, а на третий примем мы решение. Пока же священства пусть остаются в Киеве, пьют, едят, отдыхают да лечат раны, кому то надобно. – Тут князь повернулся к Помпонию, который, кряхтя и охая, поднимался с колен. – Ты уж не обессудь, гость дорогой! Таков у нас обычай: двое дерутся, третий не лезь! Сам же я разумею, что за богов своих не только словом, но и делом можно постоять, особенно доблестным римлянам. Чарку мне!
Бояре, кланяясь, стали расходиться. Вскоре палата опустела; остались в ней хмельной князь, наследник Юрий да стражи из парадной сотни. Еще ребе Хаим, которому князь сделал знак приблизиться.
– Распотешил ты меня, слуга божий, зело распотешил, – произнес государь Владимир. – Дарю тебе чарку, из которой пил, но это малая награда. Еще проси! Чего душа твоя желает?
– Привести народ сей к Богу, а более ничего, – ответил ребе, глядя на окна, за которыми лежал город.
– О боге будет сказано через три дня. Себе чего хочешь? Казны златой? Каменьев самоцветных? Хором тесовых в граде Киеве? Платья богатого? А может, – князь лукаво сощурился, – девку румяную, к любовным утехам скорую?
– Упаси Бог! – ребе Хаим всплеснул руками. – За чарку благодарствую, а что до девиц, стар для таких утех! Прошло мое время, государь!
– Но кулаками ты машешь знатно, – встрял в разговор княжич Юрий. – Где такому научился?
– В Жмеринке, юный господин, в Жмеринке, – со вздохом сказал ребе. – У нас там что ни двор, так хулиган, что ни улица, так разбойник… Поневоле научишься! Такое уж место эта Жмеринка…
* * *
В Жмеринку входили отряды батьки Махно. Первой – конная сотня на быстрых скакунах, затем тачанки с пулеметами и снова всадники, за ними – пешая толпа всяких мародеров и оборванцев, приставших к батьке в последние дни. Последним двигался обоз, две сотни телег с военным запасом, взятым в полтавском арсенале. Ручных бомб и патронов было в избытке, а вот с провиантом туговато – прокормить ораву, набежавшую в чаянии грабежа, батька не мог. Потому его хлопцы первым делом открыли охоту на кур, свиней и другую живность, шаря по домам и лавкам в поисках съестного. Населением занялись позже, но капитально.
Батька издал приказ в два пункта: всех инородцев с богатеями гнать из города, кто начнет сопротивляться, вешать, а девок брать в общак; все остальные, кто пролетарского происхождения, вступают мигом в Добровольческую армию, а если желания нет, то будет им та же петля и братская могила. Батька нуждался в пополнении после боя у Полтавы, чей гарнизон изрядно потрепал его войска. К тому же лазутчики сообщали, что в Киев идут Буслай, Пугач и Стенька Разин, и с каждым атаманом не пятьсот бойцов, как было договорено, а тысячи две или три. Батька Махно полагал, что для защиты собственных законных интересов он должен явиться в столицу с такими же силами или с войском побольше. О Пугаче Емельке говорили, что мужик он разумный, на баб не падкий и знает счет деньге; значит, с ним договориться можно, поделить Киев на части и выжать монету без лишней торопливости. Но Буслай и Разин были те еще беспредельщики и воры. Стенька, утопив свою княжну, совсем ошалел, резал и жег всех встречных-поперечных, да и Буслай любил подпустить петуха не по делу. Батьке Киева было не жаль, пусть горит ясным пламенем, но после того лишь, как не останется в нем ни полушки. Ни звонкой монеты, ни сукна и бархата, ни коней и быков, ни вин, медов и прочих ценностей. Вот тогда пусть полыхает!
Батькины хлопцы исполняли приказ с большим рвением, и за день Жмеринка опустела. Жили здесь всякие люди: румыны и венгерцы, поляки, иудеи, греки, половцы, цыгане, даже один монгол нашелся. Цыгане тут же собрались и утекли, а прочие, кто обитал не в шатрах, а в домах, кто имел хозяйство, дочерей и жен, вздумали права качать пред новой властью. Но хлопцы их быстро урезонили: монгола, что сабелькой вздумал махать, на кол пристроили, иудеев живьем пожгли, венгерцев в землю закопали, с греков сняли кожу и так далее. Конечно, это было нарушение батькиных приказов, он ведь вешать велел, а не жечь и кожу драть. Но вину эту батька простил, понимая, что не хлебом единым сыт человек, надо ему и бабу дать, и всякое иное развлечение.
Развлекались дней пять, потом двинулись на Умань.
* * *
Юний Лепид Каролус имел в Зимнем четырех осведомителей, так что диспут о вере и схватку ребе Хаима с Помпонием Нумой ему расписали во всех деталях. Он не очень удивился; будучи римским резидентом на Руси, он знал о привычках местного народа, решавшего на кулаках многие вопросы, а иногда вступавшего в схватку из удали либо по природной склонности или свирепости. В Новеграде ходили стенка на стенку, в Рязани бились оглоблями, в Твери, Тамбове, Костроме поножовщина была обычным делом, да и в столице день без драк не обходился. Варварские нравы, дикие обычаи! В Риме тоже любили потешиться, но в цивилизованных рамках, в Колизее, на гладиаторских игрищах. Хочешь смотреть – плати, а там можешь орать и беситься сколько влезет! Плебсу радость, а казне прибыток… Опять же налоги с бойцовых клубов и самих бойцов и разумное отвлечение масс от политики, забастовок и тому подобного. Но на Руси разум не уважали, отдав приоритет ножу, дубинке и, разумеется, деньгам. Словом, Юний Лепид не удивился, что драка иудея с Нумой не была остановлена князем и что ни один из думских бояр, включая подкупленных, не заступился за римского жреца. Хотя деньги взяли, как утверждал патриций Чуб.