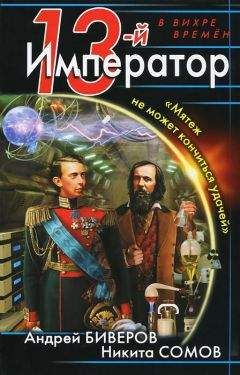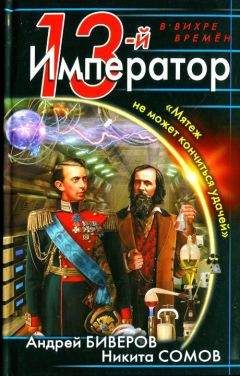* Текст здесь и далее содержит в себе подлинные цитаты из предисловия к первому выпуску журнала 'Вестник Европы', написанного М.М. Стасюлевичем 1 декабря 1865 г.
По брусчатым мостовым Варшавы мерно цокали копыта. Всадники покачивались в седлах, лениво озирая окрестности. На красных воротниках и обшлагах красовались желтые гвардейские петлицы, показывая, что едет не кто-нибудь, Казачий лейб-гвардии полк! Прохожих на улицах практически не было, да и те, кто были, едва завидев казачьи красные полукафтаны и темно-синие шаровары без лампасов, старались не попадаться на глаза. Слишком уж грозное имя завоевали себе гвардейцы-казаки за последние месяцы.
Перевод лейб-гвардии полка в Польшу, из вверенной им ранее Литвы, состоялся поздней зимой, и случайно почти совпал по времени с трагическим покушением на Императора. Едва прибыв из почти замиренного Западного Края в казармы Варшавской Крепости, еще не успев толком расквартироваться, казаки уже на следующее утро были спешно собраны командиром полка, генерал-майором Иваном Ивановичем Шамшевым во внутреннем дворике. Пока заспанные, недоумевающие донцы строились, втихомолку гадая, что за новости принесет им начальство, во дворике крепости появились новые лица. Вместе с Шамшевым к донцам вышел и сам генерал-губернатор Муравьев. Оба были бледны, суровы и молчаливы, что заставило казаков внутренне подобраться, в ожидании недобрых вестей. Речь начал командир полка:
- Казаки, донцы, к вам обращаюсь я, в минуту скорби и горести нашей! Ныне доставлены вести, что три дня назад в Петербурге на государя-императора и его семью было совершено покушение.
Казачий строй замер, в наступившей тишине было слышно лишь участившееся биение людских сердец.
- К несчастью, покушение было отчасти успешным, - тяжело, с болью в голосе продолжал генерал-майор. - Заговорщиками был умерщвлен новорожденный сын Государя и наследник престола Российского, Императрица ранена. Император жив, и ныне находится у постели супруги неотлучно.
Ровные шеренги выстроенных на плацу казаков едва уловимо заколебались. На лицах донцов проступили самые разные чувства: горе, сочувствие, скорбь, растерянность. Слишком уж чудовищной была весть, озвученная им. Между тем, командир продолжал:
- Послушайте меня, братья, - повысив голос, обратился он к казакам, чтобы снова завоевать их внимание. - Сказал я вам еще не все. Сие бесчестное злодеяние было совершено мятежными поляками.
Полк зашумел. Позабыв про наставления и уставы, донцы оглядывались друг на друга. Послышались гневные выкрики. У многих казаков руки непроизвольно легли на сабли, в глазах появилась не предвещавшая полякам ничего хорошего злость.
- Я разделяю вместе с вами эту горестную весть, - отстранив Шамшева, и перекрикивая, быстро смолкающий гул, начал свою речь Муравьев. - Но мы не должны дать горю и гневу поглотить нас. Я знаю как тяжело, обуздать праведные чувства, но ныне это необходимо. Вам предстоит самое тяжкое из дел, имеющихся у меня. Не буду скрывать, новость дошедшая до вас, уже гуляет по Привисленскому Краю. Мне доложили, что в городе уже начались гулянья и празднования в честь сей скорбной для нас вести. Да, именно празднования! - громко крикнул он разразившемуся возмущенными криками полку. - И мы с вами должны усмирить тех, кто злобное убийство, совершаемое в ночи над невинным младенцем, считает добрым делом, достойным восхваления! - Покраснев от натуги, перекрикивал разошедшихся донцов Муравьев. - Мы не должны уподобиться диким зверям рвущих когтями всех без разбору. Мы не должны карать невинных и рубить с плеча. Вы воины! И поэтому мы первыми пришли к вам. Воин не сражается с детьми, не поднимет руку на женщину, защитит невиновного. Помните об этом, когда выйдете за стены крепости! По коням, братцы! С нами Бог!
- С нами Бог! - оглушительно рявкнули в ответ казаки, получив долгожданный приказ, и, с ожесточенной решимостью, ринулись к конюшне.
Этот день в Варшаве запомнили как День Гнева. Именно так, с большой буквы. Все вышедшие праздновать 'смерть москальского ублюдка' безжалостно избивались и рассеивались. Казаки без устали хлестали нагайками по озверевшей от ненависти и ужаса толпе, оставляя на лицах и спинах кровавые шрамы. На один выстрел из толпы донцы отвечали десятками. Когда на улицах никого не осталось, конные патрули бросились на поиски любых признаков гуляний и торжеств. Заслышав льющиеся из окон песни или смех, врывались в дома, выводили жителей на улицу и публично пороли, а то и вовсе пускали красного петуха.
В ответ на жестокость казаков то здесь, то там начали стихийно организовываться засады и уличные баррикады. В военных стреляли из окон, те стреляли в ответ, редко рискуя, впрочем, врываться внутрь, предпочитая более эффективный поджог. Польские толпы врывались в дома русских, все еще проживающих в Варшаве, и забивали их дубинками, кольями, и еще долго после смерти топча уже бездыханные трупы ногами, превращая людские тела в кровавое месиво.
Карусель взаимного насилия продолжалась еще несколько дней, пока, наконец, русская власть, в лице Муравьева, не восстановила полный контроль над городом. Число убитых шло на сотни, раненых же и вовсе никто не считал. Выгорали целые кварталы, а трясущиеся от страха горожане толпами покидали город. С тех пор польские выступления в столице края были исключительной редкостью.
Вот и сейчас, казачий патруль мирно заканчивал своё дежурство, цокая копытами коней сворачивая на соседнюю улицу. Лишь ведущий патруля, казачьего лейб-гвардии полка корнет Митрофан Греков, то и дело подергивал плечами, спиной чувствуя чужой и явно недобрый взгляд.
* * *
Едва русские конники свернули за угол, портьера на окне верхнего этажа желтого трехэтажного дома, мимо которого они только что проехали, опустилась. Наблюдающий до последнего за прошедшим патрулем смуглый, с роскошными, чуть рыжеватыми усами, поляк, повернулся к присутствующим в комнате и хмуро сообщил остальным собравшимся: - Уехали! Обычный патруль, десять конников и хорунжий. Но находиться здесь опасно, уходить надо из города как можно быстрее.
Сказав это, он поправил портьеру, на миг осветив комнату и людей в них собравшихся. Это была небольшая каморка под флигелем обычного дома на одной из улиц Варшавы. В таких живут обедневшие, вдовы с трудом сводящие концы с концами, их снимают студенты, которым не по карману. Казалось бы совершено обычная история. Но именно эта комната была особенной. Посреди неё стоял широкий дубовый стол на резных ножках, за которым сидело четверо мужчин. Поверхность стола закрыта была большой, два на три метра, картой Царства Польского, на которой громоздились разрозненные стопки бумаг, то тут, то там исчерканные свежими чернильными пометками. Что бы ни обсуждали собравшиеся, разговор явно шел давно и лишь ненадолго прервался на вынужденную паузу.
- Мариан, не нужно спешить, сначала закончим разговор, - властно приказал сидящий во главе стола, высокий, статный мужчина лет тридцати, в форме русского полковника. - Присядьте.
Мариан Лангевич стоящий у окна, один из наиболее известных воевод Восстания, а именно к нему была обращена эта речь, окинул 'полковника' недовольным взглядом. Обладая взрывным и обидчивым нравом, он большим с трудом проглатывал подобные уколы. Лангевич был профессиональный военный, родившийся в Польше, но большую часть жизни проведший за её пределами. Он служил в прусском ландвере, затем в прусской гвардейской артиллерии. В 1860 участвовал в экспедиции Гарибальди против Неаполя. С началом восстания Мариан вернулся в Польшу и принял командование сначала Сандомирским воеводством, а затем и вовсе всеми отрядами восставших в Южной Польше. Однако, несмотря на богатый военный опыт, в Восстании он оказался на вторых ролях и это его жутко бесило. Молча проглотив приказной тон, Мариан, ни слова не сказав, присоединился к сидящим, заняв свое место за столом.
Объект постоянной ревности Лангевича, тот самый 'полковник', был не менее известен, чем его собеседник. Юзеф Гауке, выходец из знаменитой фламандской военной фамилии, судьба которой уже полвека была тесно связана с Польшей. Его отец был капитаном войск Варшавского герцогства, дядя Мауриций - военным министром Царства Польского. Юзеф пошел по их стопам и получил великолепное военное образование. Он обучался в русском Пажеском Корпусе, а затем и в Академии генерального штаба, в 1855 году был поставлен адъютантом в свиту императора Александра II. Сражался с остатками отрядов Шамиля на Кавказе, был награждён медалями. Уже к тридцати годам Юзеф дослужился до чина полковника, однако с началом Восстания подал в отставку, прибыл в Польшу и возглавил один из корпусов. За прошедшие три года Гауке стал одним из самых успешных командиров Восстания, взяв в руки руководство отрядами действующими в центральной и западной части Царства Польского и приграничных с Пруссией районах.