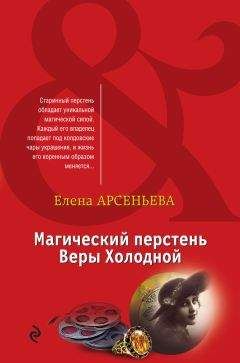У меня в голове, сквозь свинцовую тяжесть проступила даже не мысль, а какое-то смутное колебание. И я за это колебание уцепился.
— Послушайте меня! — я обвел брата с сестрой взглядом, которым хотел убедить их в правильности своего неожиданного для самого себя решения.
— Тех тварей, — я уже прямо смотрел в глаза Лишневскому, — Тех тварей я убил. Обоих. И того, кто принял решение по Соне, и того, кто его исполнил. — профессор жадно ловил каждое слово, что-то пристально высматривая в моих глазах. И по этому взгляду я понял, что останавливаться с подробностями не нужно и продолжил, — В могилу они легли еще живыми. Так, живыми, я их и закопал.
С последними словами из меня неожиданно ушла вся накопленная за эти месяцы тяжесть.
Лев Борисович сидел уже с прямой спиной и его глаза постепенно наполнялись еще чем-то, кроме тоски и безразличия ко всему происходящему вокруг. Потом он встал и твердым шагом направился к серванту. Вернулся он оттуда с бутылкой коньяка и с тремя пузатыми бокалами. Потом также молча наполнил их до половины. Дождавшись, когда мы с Паной Борисовной поднимем свои посудины, он с нами чокнулся своим бокалом и с видимым удовольствием выпил до дна. За ним последовала его сестра, а потом и я.
— Говори дальше, ты ведь не все еще сказал? — заинтересованно посмотрел на меня Лишневский.
— Со мной был мой друг. Сослуживец. Он все знал и мне помогал, — продолжил я, чувствуя, что тонкая ледяная преграда между нами куда-то пропала, — Хороший, честный парень. Семейный. Мать, жена и дочка, — я видел, что мою мысль профессор уловил и отвергать ее не спешит.
— Ну! — кивком поощрил меня Лев Борисович и опять наполнил бокалы, не обратив внимания на укоризненный взгляд сестры.
— У него с жильем проблемы, они вчетвером в коммуналке живут, — быстро закончил я и взял в руки посуду с напитком. — Пропишите его в эту квартиру, так правильнее будет!
— Его одного прописать не получится. У него жена и дочь, — отрицательно покачал головой профессор, — Мать его прописать надо, — он опять звонко чокнулся с нами и смачно выпил, — А потом они с его матерью обменяются.
Лев Борисович Лишневский улыбнулся. Впервые после смерти дочери.
— Серега, а как-же тогда Боровикова? — растерянно хлопал раскосыми татарскими глазами единственный, но не только поэтому, мой самый лучший друг.
— Вова, ты дебил?! — громче, чем следовало вырвалось у меня и прохожие заинтересованно замедлили шаг, надеясь, наверное, что вот эти два мента сейчас передерутся.
Но Нагаев не обиделся. Он с уже привычной и спокойной недоуменностью смотрел на меня, а я невольно устыдился своей несдержанности.
— Володь, у Боровиковой еще нет ничего определенного. — терпеливо затеялся с объяснениями, — Вернется она на свое место или нет, нам с тобой пока доподлинно неизвестно! Так? — Нагаева я решил подводить к пониманию его-же, самостоятельно сделанными выводами.
— Так! — согласился друг, — Но ты же говорил, что ее обязательно вернут?! — он удивленно всматривался в мои честные глаза.
Меня в очередной раз напрягла истовая уверенность друга в моем всесилии и непогрешимости моих прогнозов.
— Так, брат, конечно-же, всё так! — не стал я разочаровывать своего апостола. — Но, согласись, квартирный вопрос, он слишком серьезный, чтобы рисковать, упуская такую возможность. Ты не согласен со мной? Или я чего-то не понимаю?!
— Я согласен с тобой, это я пока не понимаю чего-то, — честно признался Вова.
Оно и немудрено. Еще совсем недавно у семейства Нагаевых не было никаких шансов выбраться из постылой коммуналки. А сейчас они в этих вариантах, как в сору роются. Да еще в каких вариантах!
— Ты хоть понимаешь, какая хата тебе в руки ломится? — начал заводиться я, — Вова, это обкомовский дом! Туда начальник твоего Советского райотдела никогда в жизни не заселится! И мой из Октябрьского тоже не заселится. Потому что не по Сеньке шапка! Там потолки по три с половиной метра, Вова и площадь больше сотни метров! Два балкона, Вова!!
Вовино недоумение на лице начало меняться на выражение робкого счастья. Но через секунду оно сменилось гримасой, похожей почти на ужас. По вовиному лицу выходило, что сзади ко мне подкрался закопанный на лесной поляне Нигматуллин.
— Корнев, мерзавец! А ну стой! — раздался из-за спины знакомый, но такой недобрый женский голос...
Глава 22
— Скотина ты, Корнеев! — с блаженной отрешенностью на лице, удовлетворенно потянулась рядом некогда злобная и опасная самка. Еще совсем недавно злобная. Но по-прежнему все еще опасная.
Это теперь она выглядела довольной и даже насытившейся. Однако всего лишь какой-то час тому, увидев всполох ужаса на лице потомка Чингисхана, я, быстро обернулся и сам едва не обоссался. От неожиданности. Испугался я непреодолимой яростной ненависти, которая шаровой молнией летела в меня, испепеляя пространство. От входа в РОВД на нас с Вовой с неотвратимой стремительностью носорога надвигалась Эльвира Юрьевна Клюйко. Советник юстиции перла, не разбирая дороги и не обращая внимания на попадающихся на ее пути служителей внутренних органов. Те прыскали в стороны, как помоечные голуби из-под неведомо откуда выскочившей дикой кошки в прокурорском облачении.
— Бл#, да ну её на х#й! — побелевшими губами обреченно прошептал Нагаев, — Ведь знал же, что она не отстанет! — его плечи безвольно поникли, — Она мне на последнем допросе слово дала, что закроет, — в который уже раз пожаловался мне друг на это недоброе обещание Клюйко. Но к его чести, прочь бежать Нагаев не кинулся.
Причины появления в этом месте и в это время старшего следователя по особо важным делам областной прокуратуры, мне были неизвестны. Но вряд ли это как-то соотносилось с моим здесь присутствием. Значит, это случайность. Тем не менее, случайность эта, обернувшись публичным скандалом, уже через несколько секунд станет роковой. Для меня роковой. И, наверное, для Вовы тоже. Ему достанется прицепом. Эта баба, абсолютно точно, слетела с катушек и в данный момент себя не контролирует. И причиной ее безудержной ярости, приходится признать, скорее всего, являюсь я. Не Вова же! Его крови она напилась вдоволь еще во время многочисленных допросов и очных ставок с джигитами и с их предводителем Ягутяном.
Я ничуть не сомневался, что немногим позже, когда бешенная тетка придет в себя, она, чтобы не выглядеть на всю правоохранительную область взбаламошной дурой, найдет оправдание своей бабьей ярости. Причем такое, которое всех устроит. Но лично мне такое оправдание ничего хорошего не сулит. Она, просто, к уже имеющемуся, накопает на меня еще чуток дерьма и вполне обоснованно закроет меня в чулан. Поводов для этого надзирающему органу я надавал предостаточно. И это тоже надо признать со всей объективной определенностью. Уж чего-чего, а погарцевал-то я от души и тут ничего не попишешь...
Взбесившуюся Эльвиру надо было срочно чем-то отвлекать. В данном конкретном случае, самым лучшим выходом был бы удар по её голове резиновым молотком рихтовщика. Но молотка сейчас при мне не было. Ни резинового, ни обыкновенного. Стало быть, опять надо импровизировать. И я шагнул навстречу сумасшедшему локомотиву.
Обхватив покрепче стремительно налетевшую на меня женщину, я немного опрокинул ее назад. Воспользовавшись ее секундным замешательством, впился поцелуем в что-то мне орущий и злобно перекошенный рот. Через мгновение прокурорская самка начала дико рваться из моих рук, но я вжал ее в себя изо всех сил, со страхом думая только об одном. Не обглодала бы она мне губы в приступе ярости и не откусила бы язык. Не обглодала и не откусила. И не от доброты, я думаю, а от бескрайней растерянности, и от абсурдности происходящего.
— Намёки излишни, душа моя! Люблю тебя больше жизни! Готова ли ты стать матерью?
Все три фразы я выдал очень быстро, в упор глядя в глаза, рвущейся из моих рук на свободу особо важной следачки. Правую ногу я на всякий случай подсогнул в колене, чтобы ею максимально защитить свои яйца от ударного на них посягательства со стороны областной прокуратуры.