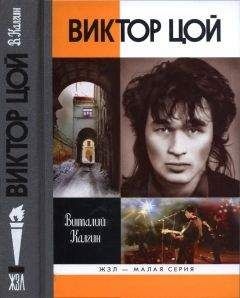И тогда Габсбурги пошли ва-банк…
— Пуцают![69]
Вот ведь пацаны! По двенадцать лет, а то и десять — и сидят на крышах, которые еще остались целыми с биноклями. Сколько же их полегло под снарядами — ведь когда падает снаряд и рушится дом — шансов почти нет. Но сидят. Не сгонишь.
— Доле! — истошно крикнул кто-то.
Крепость на другом берегу, снаряду всего — то — через Дрину перелететь. Четники едва успели повалиться навзничь, кто где был — как страшный удар сотряс землю, выбил воздух из легких, перехватил дыхание. Восьмидюймовка, главный калибр Землины, крупповские осадные орудия прямой наводкой — по городу в котором и так мало что осталось после семи дней боев. Обстрелы начались еще вчера — когда усташи поглавника Павелича так и не смогли форсировать Саву, хотя пытались и не раз Сейчас то точно смогут — вот только останется ли что-либо на том берегу — вопрос…
— Пуцают!
Содрогается земля, что-то рушится со стоном — как будто погибает живой человек. Совсем рядом…
— Пуцают!
Да сколько же у них снарядов? И сколько они собираются так стрелять? Почему они не выходят в открытый бой! Ведь их же все равно больше в несколько раз. Ах да… боятся… Боятся, потому что сербы намерены как и всегда стоять до конца. И значит — вода в Саве еще долго будет красной. Красной от крови, пролитой за Сербию…
— Пуцают!
На сей раз хрястнуло так, что четник Милан Митрич, пулеметчик одной из чет и впрямь подумал — все. Снаряд, весом с полтонны лег где-то совсем рядом, и от его разрыва земля не просто содрогнулась — она подпрыгнула, ударив в грудь с безумно свирепой силой. Рядом что-то рушилось, хрустко, ужасно медленно, было нечем дышать от гари и пыли, что-то колотило по спине — падало, поднятое разрывом.
Вот и все… Матерь Богородица…
— Митрич! Митрич, где ты?!
Что-то, что навалилось на спину, вдавив его в жидкую, мерзкую грязь улицы, вдруг перестало давить на спину, куда-то исчезло. Милан попытался вздохнуть, от недостатка кислорода уже круги перед глазами, хватанул воздух — и надсадно закашлялся…
— Жив?
— Живе… — слова продрались через пересохшее горло.
— На, испей!
Вода во фляге была теплой и грязной, омерзительно воняющей какой-то тиной — но для пересохшего горла это был бальзам.
— Поднимайся! Сейчас усташи пойдут!
— Живео Сербия! — крикнули совсем рядом.
Слава Божьей матери — пушки Землины не могут стрелять постоянно, от таких снарядов велик износ ствола, орудие при интенсивной стрельбе может даже разорвать. Поэтому так и воевали — сначала обстрел, потом в атаку шли усташи — те, кто к этому моменту оставался в живых. Впрочем и защитников Белграда оставалось в живых уже немного…
Пейзаж по сравнению с тем как Митрич видел его последний раз, сильно изменился — по левой стороне снаряд угодил прямо в дома, оставив на их месте группу дымящихся развалин. Улицу застилал дым — что-то горело.
— А-ха… Они по усташам попали! Живео Сербия!
— Живео Сербия!
Действительно — горели танки. Верней не танки, а танкетки всего лишь с одним крупнокалиберным пулеметом, против настоящего танка такая танкетка продержится дай боже минуту. Но против мирняка для подавления волнений такой танк в самый раз. И эти танки передали хорватам — а два из них сейчас горели, в одном уже сорвало башню, второй был завален обломками рухнувшего дома. Прямо посреди улицы — огромная воронка. Угодили пушкари австрийские, угодили — теперь тут не пройдешь, не проедешь, лучшего дополнения к баррикаде и не придумаешь.
Совсем рядом, перед баррикадой валялся труп — непонятно, серб или усташ. Даже не труп — а что-то напоминающее мешок. Грязный, бесформенный мешок.
— Обходят! Левее обходят!
— За мной!
Дом еще не рухнул, хотя был ранен и ранен смертельно, даже попадания рядом, не прямого хватит. Трещины в полу, в потолке, в стенах. Один за другим четники исчезали в проломе окна первого этажа, придерживая оружие — в основном трофейное, взятое с тех же усташей.
Сломанная мебель, перекошенный дверной проем…
— Танки!
Танков было всего два — но и этого было достаточно, чтобы прорвать, проломить оборону и ввести в прорыв отряды усташей. Они выползли на улицу, выползли медленно, со стороны пригородов. Остановились. А потом одновременно — словно сговорившись — ударили из пулеметов по домам — по тому, что домами еще можно было назвать, и по тому, что можно было назвать лишь руинами.
Чистым и сильным голосом, перекрикивая заговорившие наперебой пулеметы, кто-то из четников запел.
Снова над Родиной ночь —
Сил нет беду превозмочь…
Волчьею стаей враги
Сербию рвут на куски!
— Митрич! Важанович! Ко мне!
Воевода Путник, присев и укрывшись за стеной, досадливо смотрел на улицу.
— Ухоронитесь тут. Вот, возьмите…
Две гранаты. Германские, противотанковые на длинных деревянных ручках. Каждая — тяжелая, не по одному килограмму.
— Последние… Мы их отвлечем… там, дальше. Попытаемся отсечь усташей. А вы… только не смажьте… С Богом, браты…
Танкисты осторожничали. Опыт уличных боев у них уже был, не один и не два танка сгорели от обычных бутылок с бензином. Гранат было немного — но сербы восполняли почти полное отсутствие противотанковых вооружений такими вот эрзац-решениями. И ведь работало!
— Пойдем по улице… — Важанович рукавом вытер чумазое от грязи и дыма лицо, сплюнул на землю.
— Свалят сразу, ты что, брачо…
— Не по этой. По той улице, откуда мы пришли, там сейчас боя нет. Пройдем тихо, потом в подвал и… На, держи!
Важанович протянул Митричу свою гранату.
— Давай, поменяемся. Дай пулемет.
Митрич отдал свой Лигнозе, принял взамен легкий Штейр-Солотурн, трофейный, взятый в бою у усташей, закинул потертый ремень на шею. Пусть и стреляет не винтовочными а пистолетными патронами — но легкий, не то что пулемет. Мельком заметил — на ремне восемь дырок, только неизвестно кто их поставил — может Важанович, может усташ у которого он его отнял. Так обе стороны отмечали количество убитых.
Гранаты были увесистыми, оттягивали руки.
— Я первым пойду. Тебя прикрою.
— Добро.
Прошли тем же путем, когда за спиной снова застучали пулеметы — их пули проламывали по две стены, почти как пушечные снаряды.
На той улице, где они держали оборону, внешне ничего не изменилось — но то только внешне. Все та же полуразрушенная баррикада, все тот же, стелящийся по улице горький, едкий, дерущий горло дым. Все та же воронка от снаряда, все те же развалины.